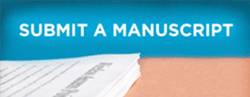Syphilis and some other STIs in the Russian Federation: past, present and ways to control of the epidemiological situation in the future
- Authors: Krasnoselskikh T.V.1, Sokolovskiy E.V.1, Rakhmatulina M.R.2, Novoselova E.Y.2, Melekhina L.E.2
-
Affiliations:
- First Pavlov State Medical University of Saint Petersburg
- State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
- Issue: Vol 99, No 4 (2023)
- Pages: 41-59
- Section: HEALTH ORGANIZATION
- Submitted: 04.07.2023
- Accepted: 31.08.2023
- Published: 16.10.2023
- URL: https://vestnikdv.ru/jour/article/view/13726
- DOI: https://doi.org/10.25208/vdv13726
- ID: 13726
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to assessing the situation with syphilis and other sexually transmitted infections in the USSR and Russia in the period after the Second World War. On the basis of long-term statistical data, the patterns of rises and decreases in syphilis, gonorrhea, chlamydia infection are analyzed, possible factors influencing the epidemic process are discussed and a comparative assessment of the current situation in Russia and Western countries is carried out. Comparing to the previous year, there was an increase of the syphilis incidence by 39.4% in 2021, by 33.7% in 2022 and by 14.7% in the first 4 months of 2023. The incidence of gonococcal infection increased by 10.4%, 10.0% and 5.5%, respectively. The attention is drawn to the negative trend of an increase of latent and late syphilis among other forms, as well as rising number of late neurosyphilis and late cardiovascular syphilis cases. In view of the predicted increase in the incidence of syphilis and other STIs in the coming years, the authors emphasize the urgent need to develop and implement a state interdisciplinary program aimed to epidemiological monitoring, improvement of the diagnosis and treatment, prevention of the dissemination of syphilis and other STIs and controlling of factors that negatively affect the reproductive health of the nation.
Full Text
Заболеваемость сифилисом и другими ИППП в СССР и Российской Федерации во второй половине ХХ — начале ХХI в.
Детальный анализ динамики заболеваемости сифилисом, в частности разными его клиническими формами, в России и ее отдельных регионах представляет непростую задачу: данные официальной статистики относительно неполны или отсутствуют за ряд лет, а доступ к ним ограничен. Анализ публикаций в основном отраслевом журнале «Вестник дерматологии и венерологии» и некоторых других изданиях дерматовенерологического профиля за период после Великой Отечественной войны позволяет констатировать, что в нашей стране за послевоенный период было отмечено три подъема заболеваемости сифилисом со всеми классическими признаками эпидемического процесса [1–18] (рис. 1).
Рис. 1. Подъемы заболеваемости сифилисом в РФ в период с 1946 по 2022 г. (число ежегодных случаев на 100 тыс. населения)
Fig. 1. Increase in syphilis incidence in the Russian Federation between 1946 and 2022 (number of annual cases per 100,000 population)
Данные регулярной регистрации заболеваемости имеются начиная с 1946 г., когда она составила 174,6 случая на 100 тыс. населения [12]. В первые послевоенные годы заболеваемость оставалась достаточно высокой, что объясняется последствиями войны: значительный рост числа случаев сифилиса на оккупированных территориях, разрушение инфраструктуры, в том числе учреждений здравоохранения. Однако уже с 1947 г. отмечается постепенное устойчивое снижение уровня заболеваемости. К 1950–1951 гг. заболеваемость активными формами сифилиса снизилась в 8 раз по сравнению с 1946 г. и достигла довоенного уровня. К 1957 г. она стала ниже в 4,3 раза по сравнению с 1940 г. [13]. Самый низкий послевоенный показатель был зарегистрирован в 1963 г. — 2,45 случая на 100 000 населения. В целом за 1950–1960 гг. регистрация сифилиса (всех форм) в РСФСР снизилась более чем в 5,7 раза, в том числе заразных форм — в 15,8 раза [14]. Достижение низких цифр заболеваемости сифилисом являлось несомненным успехом социалистической системы противовенерических мероприятий, основу которых составлял диспансерный метод, сформулированный и закрепленный уже на первых Всероссийских съездах дерматовенерологов в 1923–1925 гг. Снижение заболеваемости стало результатом стабилизации социально-экономической ситуации, создания сети кожно-венерологических диспансеров, широкого внедрения эффективного лечения (в первую очередь пенициллинотерапии) и жесткого комплекса противоэпидемических мер, включавших уголовную и административную ответственность больного за уклонение от лечения или сокрытие контактных лиц.
Следующая волна заболеваемости сифилисом началась в 1968 г., но амплитуда ее оказалась значительно ниже, чем в 1946 г. Пик второй волны пришелся на 1979 г., когда число вновь выявленных случаев достигло 27,9 на 100 тыс. населения [15, 16]. Учитывая неизменность комплекса проводившихся социально-профилактических мероприятий, этот подъем заболеваемости, вероятно, можно объяснить лишь феноменом волнообразного изменения патогенных свойств возбудителя под влиянием недостаточно изученных природных факторов (например, солнечной активности) [19, 20]. В последующие 10 лет произошло очередное снижение заболеваемости, которая к 1988–1989 гг. достигла минимальной цифры — 4,3 случая на 100 000 населения [17].
С 1989 г. начался третий подъем заболеваемости сифилисом, самый мощный за весь послевоенный период, который, пользуясь аналогией с волнами, можно уподобить цунами. На фоне распада СССР, падения производства, разрушения финансовой системы страны, резкого социального расслоения и криминализации общества, роста безработицы, алкоголизма, наркомании, проституции произошел взрывной рост числа больных. К 1997 г. заболеваемость достигла 277,3 случая на 100 тыс. населения, более чем в 1,5 раза превысив послевоенный уровень [15, 18]. В этот период было отмечено и резкое увеличение заболеваемости врожденным сифилисом, который до 1990 г. регистрировали казуистически редко (рис. 2).
Рис. 2. Число случаев врожденного сифилиса, выявленных в РФ в период с 1973 по 2022 г.
Fig. 2. The number of cases of congenital syphilis detected in the Russian Federation between 1973 and 2022
Причиной этого подъема явилось позднее обращение/необращение беременных, больных сифилисом, в медицинские организации, что приводило к их несвоевременному выявлению и неполноценному лечению. Начиная с 1993 г. число случаев врожденного сифилиса увеличивалось в геометрической прогрессии, достигнув, по данным официальной государственной статистической отчетности, максимального значения в 1998 г. — 66 случаев на 100 000 живорожденных [21].
В конце 1990-х — начале 2000-х гг. были отмечены высокие показатели заболеваемости ИППП в одной из наиболее социально значимых «ядерных» групп населения — среди подростков. Так, в период с 1999 по 2001 г. показатели заболеваемости гонококковой инфекцией подросткового населения в Российской Федерации были в среднем на 10% выше, чем среди взрослых (в 1999 г. — 163,3 и 144,4 случая на 100 000 населения соответственно), а показатели заболеваемости сифилисом находились практически на одинаковом уровне в данных возрастных группах (195,8 и 227,8 случая на 100 000 населения соответственно) [22].
В этот период была существенно ослаблена противоэпидемическая работа, проводимая КВД, и появилось множество коммерческих клиник, занимавшихся лечением сифилиса и других ИППП, и частнопрактикующих врачей, зачастую не имевших должной квалификации и не отягощавших себя проведением необходимого эпидрасследования в очагах инфекции и официальной регистрацией выявленных случаев заболевания. Ввиду доступности антибиотиков в безрецептурной продаже широко распространилось и самолечение ИППП. Этот факт наиболее отчетливо демонстрирует сдвиг соотношения между числом официально зарегистрированных случаев сифилиса и гонореи [1–11] (рис. 3).
Рис. 3. Заболеваемость сифилисом и гонококковой инфекцией в РФ в период с 1990 по 2022 г. (число ежегодных случаев на 100 тыс. населения)
Fig. 3. The incidence of syphilis and gonococcal infection in the Russian Federation between 1990 and 2022 (number of annual cases per 100,000 population)
В 1990 г. на один выявленный случай сифилиса приходилось приблизительно 25 заболевших гонореей. В 1995 г. количество официально зарегистрированных больных сифилисом впервые превысило число зарегистрированных больных гонореей (178,0 и 173,7 случая на 100 тыс. населения соответственно), то есть соотношение сифилис/гонорея приблизилось к 1:1. Подобный сдвиг, возможно, обусловлен тем, что пациенты с гонококковой инфекцией больше не обращались в государственные венерологические учреждения, а занимались самолечением либо лечились у частных специалистов, официально не регистрировавших случаи гонореи.
В конце 90-х гг. ХХ в. неблагополучная эпидемическая ситуация с заболеваемостью сифилисом и в целом ИППП значительно усугубилась в результате быстрого распространения ВИЧ-инфекции, которая глубоко затронула социально уязвимые группы населения — потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, трудовых мигрантов, заключенных, лиц без определенного места жительства, беспризорных детей, подростков и др. [23]. Доказан «отрицательный синергизм» ВИЧ-инфекции и сифилиса — то есть взаимное усиление негативного эффекта, когда каждая из болезней при их сочетании протекает более неблагоприятно, чем отдельное заболевание [24]. Наличие сифилиса увеличивает вероятность заражения ВИЧ при незащищенном половом контакте и способствует прогрессированию ВИЧ-инфекции. С другой стороны, традиционно считается, что наличие ВИЧ-инфекции может существенно изменять клиническую картину и течение сифилиса, затруднять его диагностику и лечение, хотя широкое внедрение антиретровирусной терапии позволило существенно уменьшить этот негативный эффект [24–28].
Критическая ситуация с заболеваемостью сифилисом (почти 65-кратный рост в период с 1989 по 1997 г.) потребовала срочной разработки и внедрения в широкую практику ускоренных методов лечения [29]. Уменьшение продолжительности курсов противосифилитической терапии позволило учреждениям венерологического профиля справиться с потоком пациентов на пике эпидемии и за несколько лет стабилизировать эпидемическую обстановку [30]. С 1998 по 2020 г. в России регистрировалось стабильное ежегодное снижение заболеваемости сифилисом. В 2020 г. в стране было выявлено всего 15 313 больных сифилисом, заболеваемость составила 10,4 случая на 100 тыс. населения.
Таким образом, за послевоенный период Россия трижды переживала периоды эпидемического роста заболеваемости сифилисом, всякий раз сменявшиеся более «спокойными» периодами с низким уровнем заболеваемости ранними заразными формами сифилиса. Трижды после периодов кажущегося «затишья» сифилис неизменно возвращался вновь, причем такой своеобразный «ренессанс» инфекции невозможно объяснить только банальным «заносом инфекции» извне с зарубежных территорий в условиях относительной закрытости общества в СССР с небольшим объемом хорошо контролируемых трансграничных перемещений. Причины лежат гораздо глубже — в особенностях пути передачи, самой природе течения сифилитической инфекции, недостатках противоэпидемической работы. И сама дерматовенерологическая служба не всегда оказывалась готовой к очередной «волне» заболеваемости. Врачи-дерматовенерологи, осваивавшие специальность в период спада заболеваемости, не приобретали надлежащего опыта ведения пациентов с сифилисом, изучая данную нозологию лишь теоретически по учебникам и атласам. Врачи других специальностей утрачивали настороженность и опыт диагностики инфекции, считая сифилис казуистической редкостью из далекого прошлого. В периоды благополучия происходило сокращение числа коек венерологического профиля; сокращалось или прекращалось по разным причинам (нерентабельность, «невостребованность») производство антибиотиков, наилучшим образом зарекомендовавших себя для лечения сифилиса; не разрабатывались долгосрочные государственные программы по профилактике сифилитической инфекции и других ИППП.
Несмотря на успехи дерматовенерологической службы в борьбе с эпидемическими подъемами заболеваемости сифилисом, в популяции всегда сохранялось своеобразное «ядро» эпидемии — субпопуляция лиц с рискованным сексуальным поведением, высокой частотой смены половых партнеров и перекрестными связями между этими партнерами в пределах группы. Именно эта «ядерная» субпопуляция с высоким уровнем заражаемости сифилисом и другими ИППП при периодически ухудшающихся социально-экономических условиях становилась источником очередного подъема заболеваемости. Эффективные профилактические программы, которые позволяют замедлить процесс распространения и циркуляции инфекции внутри «ядра», размер которого обычно не превышает 5% сексуально активного населения, необходимы и часто достаточны, чтобы предотвратить эпидемию в популяции в целом [30–32]. Для достижения результата необходим максимально широкий охват «ядерных» групп профилактическими программами. Причем дерматовенерологи каждый раз говорили о важной отягчающей причине повторения эпидемиологического роста — недооценке действия законов эпидемиологии ИППП. Представители венерологического экспертного сообщества многократно на различных уровнях подчеркивали необходимость наличия в России постоянно действующей государственной программы профилактики сифилиса и других ИППП.
Первые два десятилетия ХХI в. в нашей стране характеризовались относительным благополучием эпидемической ситуации по сифилису и другим ИППП. Однако в 2021 г. в Российской Федерации был зарегистрирован значительный рост заболеваемости сифилисом: по сравнению с 2020 г. она возросла на 39,4% — до 14,5 случая на 100 тыс. населения. Также было установлено увеличение показателя заболеваемости гонококковой инфекцией на 10,4% (с 6,7 до 7,4 на 100 тыс.), при этом соотношение сифилис/гонорея в 2021 г. составило 2:1.
В 2022 г. неблагоприятная тенденция продолжилась: по предварительным данным, за период с января по декабрь выявлено 25 695 случаев сифилиса (рост по сравнению с 2021 г. составил 33,7%) и 11 367 — гонореи (рост на 10,0%). В отдельных регионах рост заболеваемости сифилисом превысил 100% (Ивановская область — 462,5%, Ямало-Ненецкий АО — 244,4%, Республика Дагестан — 102,6%). Повышение заболеваемости гонококковой инфекцией более чем на 100% отмечено в Ивановской (400,0%), Ярославской (121,4%), Воронежской областях (111,4%), Республике Карелия (118,9%) [33].
За первые 4 месяца 2023 г. (по данным на конец апреля) в РФ были выявлены 8991 случай сифилиса и 3611 — гонококковой инфекции, а за аналогичный период 2022 г. — 7496 и 3422 соответственно. Таким образом, заболеваемость сифилисом возросла на 14,7%, гонореей — на 5,5%. Лидируют по числу вновь выявленных случаев сифилиса г. Москва (30,98 случая на 100 000 населения), Ямало-Ненецкий АО (22,49:100 000) и Республика Тыва (16,89:100 000) [33]. Эти тревожные цифры, по-видимому, свидетельствуют о том, что в России начался новый, четвертый за период после Великой Отечественной войны подъем заболеваемости сифилисом и другими ИППП. Каковы будут его амплитуда и продолжительность, пока что можно лишь гадать. Свой негативный вклад в этот подъем, несомненно, внесла эпидемия новой коронавирусной инфекции, поскольку в период карантина многие пациенты не обращались своевременно за венерологической помощью и, будучи инфицированными, способствовали распространению ИППП в своих сексуальных сетях. Под сексуальной сетью мы понимаем группу людей, объединенных сексуальными взаимосвязями [30, 34]. Для «ядерных» групп типичны сексуальные сети большого размера, разветвленные, со сложной организацией и большой плотностью сексуальных связей, существующих между разными членами сети. Особенности взаимодействий представителей «ядерных» групп в пределах их сексуальных сетей, склонность выбирать поведенчески сходных, то есть рискованных, партнеров определяют высокий риск передачи ИППП.
Безусловно, нельзя не учитывать в качестве фактора, способствующего распространению ИППП в России, возобновившуюся в 2021–2022 гг. (после отмены ограничений, связанных с COVID-19) миграцию населения из сопредельных государств (трудовые мигранты) [35–37], а также миграцию населения из регионов, где ведутся боевые действия (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) и где уже в течение многих лет отсутствует адекватная венерологическая помощь населению и статистический учет заболеваемости. Имеющиеся на текущий момент предварительные данные свидетельствуют о преобладании у мигрантов поздних форм сифилиса, а значит, они малоконтагиозны и не могут являться «ядерной» группой распространения эпидемии. Однако ситуация с заболеваемостью ИППП в социально уязвимой субпопуляции мигрантов требует дальнейшего изучения, в частности необходимо составить более полное представление о распространенности различных клинических форм в структуре заболеваемости сифилисом среди мигрантов и граждан Российской Федерации, провести анализ влияния заболеваемости среди мигрантов на показатели заболеваемости в стране в динамике, детально проанализировать данные заболеваемости в различных регионах.
Возможности контроля эпидемической ситуации
Какие моменты из нашего с вами опыта работы следует отметить как важные и обязательные для того, чтобы начавшийся рост заболеваемости сифилисом и другими ИППП не стал очередным поводом вновь констатировать, как это принято говорить, «недоработки и недостатки»?
Прежде всего необходимо признать, что на современном этапе развития медицинских знаний и при существующих сложностях в социально-экономической жизни любого государства задача полной ликвидации сифилиса и других ИППП не может быть решена в обозримом будущем, и все попытки ее решить заканчивались неудачей во всех странах, где пытались это сделать. Последний пример — ренессанс сифилиса и других ИППП в США (а затем и в других странах Запада) практически сразу же после окончания срока действия и прекращения финансирования ряда программ профилактики ВИЧ-инфекции, которые выполнялись в США и других странах после открытия вируса и всеобщего признания опасности распространения эпидемии [38]. Широкая пропаганда защищенного секса и реализация различных превентивных технологий, направленных на коррекцию рискованного сексуального и инъекционного поведения, способствовали формированию групп населения, соблюдавших меры профилактики заражения ВИЧ и ИППП, что позволило контролировать не только распространение ВИЧ-инфекции, но и ИППП, прежде всего — именно сифилиса. Подобные превентивные программы, правда, в ограниченном масштабе, были реализованы и в нашей стране и показали хорошие результаты. Так, многолетнее исследование, проведенное в Санкт-Петербурге в когорте потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), показало, что долгосрочное медико-социально-психологическое сопровождение наркозависимых в сочетании с групповыми обучающими тренингами, основанными на модели «равный — равному», позволяет снизить рискованность их инъекционного и сексуального поведения, а также уменьшить заболеваемость ВИЧ-инфекцией в экспериментальной группе в 1,84 раза по сравнению с контрольной [39]. Еще одно когортное исследование было проведено в Санкт-Петербурге в группе пациентов венерологического профиля, обращавшихся в один из КВД города. Превентивное вмешательство, заключавшееся в предоставлении информации об ИППП и ВИЧ-инфекции, мотивации к изменению рискованного сексуального поведения и формировании навыков здоровьесберегающего поведения, позволило снизить заболеваемость ИППП в период участия пациентов в превентивной программе в 4,3 раза [40].
К сожалению, основной проблемой всех профилактических программ, направленных на коррекцию саморазрушительного поведения, является невозможность достижения стойкого изменения психологических и социальных характеристик, которые подпитывают поведенческие риски. Прекращение реализации превентивных программ на уровне рискованной субпопуляции (например, потребителей инъекционных наркотиков, лиц, склонных к промискуитету, и т. п.), вступление в период взросления и активной половой жизни нового поколения, недостаточно информированного об ИППП и не мотивированного на соблюдение профилактических мер, вскоре приводят к росту заболеваемости ИППП. Так, например, в последние годы в «благополучных» США и странах Европы отмечают рост заболеваемости сифилисом, гонококковой и хламидийной инфекцией. А между тем планировали наши западные коллеги совсем другое. В США в октябре 1999 г. был принят Национальный план элиминации сифилиса [41], согласно которому к 2005 г. предполагалось снизить число ежегодно выявляемых в стране случаев первичного и вторичного сифилиса до 1000 и менее, а число штатов, свободных от заболевания, должно было достичь 90%. Добиться указанных амбициозных показателей планировали путем реализации мер, хорошо известных каждому российскому венерологу, знакомому с основами диспансерного метода работы: за счет усиления эпиднадзора, ускорения реагирования на локальные вспышки заболеваемости (активизации работы в эпидемических очагах), оптимизации функционирования клинических и лабораторных служб, пропаганды здоровьесберегающего поведения, работы с сексуальными партнерами и профилактических вмешательств на уровне социальных групп и сообществ [41]. Что же произошло на деле? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), в период с 1999 по 2006 г., несмотря на предпринятые усилия, заболеваемость сифилисом в США практически не изменилась, составив 12,7 и 11,2 на 100 тысяч населения соответственно. А c 2006 г. заболеваемость сифилисом в США неуклонно росла и в 2016 г. превзошла российский уровень: в 2021 г. она составила 51,5 случая на 100 тыс. населения, что более чем в 3,5 раза выше заболеваемости сифилисом в России (рис. 4).
Рис. 4. Заболеваемость сифилисом в РФ и США в период с 1990 по 2021 г. (число ежегодных случаев на 100 тыс. населения)
Fig. 4. The incidence of syphilis in Russian Federation and in the USА between 1990 and 2021 (number of annual cases per 100,000 population)
Таким образом, национальный план по элиминации сифилиса в США выполнить не удалось, что объясняют концентрацией заболевания в определенных группах населения (мужчины, имевшие сексуальные контакты с мужчинами, мужчины-афроамериканцы, жители южных штатов), требующих адресных подходов к профилактике заболевания. Не была осуществлена и Глобальная стратегия по ликвидации врожденного сифилиса, принятая ВОЗ в 2007 г. [42]. Рост заболеваемости врожденным сифилисом наблюдают в США с 2016 г., и к 2021 г. она увеличилась в 6 раз — с 12,4 до 74,1 случая на 100 тыс. новорожденных (рис. 5).
Рис. 5. Число случаев врожденного сифилиса в РФ и СШA в период с 1973 по 2021 г.
Fig. 5. The number of cases of congenital syphilis in Russian Federation and in the USА between 1973 and 2021
Заболеваемость гонококковой инфекцией в США в 2021 г. по официальным данным превысила российский уровень в 28,4 раза (209,9:100 000 населения) (рис. 6), урогенитальной хламидийной инфекцией — в 27,6 раза (490,6:100 000 населения) (рис. 7). Однако такая существенная разница объясняется, по-видимому, не столько реальными различиями в эпидемической ситуации, сколько различием в подходах к диагностике гонореи и хламидиоза. В США в качестве рутинных методов подтверждения диагноза используют молекулярно-биологические технологии, а в России применение этих методов доступно не везде и не обеспечивается программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
Рис. 6. Заболеваемость гонококковой инфекцией в РФ и США в период с 1990 по 2021 г. (число ежегодных случаев на 100 тыс. населения)
Fig. 6. The incidence of gonococcal infection in Russian Federation and in the USA between 1990 and 2021 (number of annual cases per 100,000 population)
Рис. 7. Заболеваемость урогенитальной хламидийной инфекцией в РФ и США в период с 1993 по 2021 г. (число ежегодных случаев на 100 тыс. населения)
Fig. 7. The incidence of urogenital chlamydia infection in Russian Federation and the USA between 1993 and 2021 (number of annual cases per 100,000 population)
С сожалением можно констатировать, что до сих пор ни одна из разрабатываемых и проводимых программ ограничения распространения ИППП не привела к элиминации этих инфекций из популяции. И дело не только в недостатке финансирования (превентивные программы, к сожалению, нигде не получали достаточного финансирования), но также и в том, что социальная составляющая этих программ, направленная на повышение информированности представителей групп риска в вопросах ИППП, формирование мотивации к здоровьесберегающему поведению и выработку навыков коммуникации с партнерами относительно защищенного секса, всегда сталкивалась с серьезным сопротивлением со стороны определенной части общества во всех странах, так как воспринималась либо как попытка ограничения неких «свобод», либо как привитие обществу «чуждых» идей и т. п. При этом аргументы медицинские, научные заглушались хором голосов, обвиняющих оппонентов сразу же в попытке переноса «чуждой идеологии» и отнюдь не желающих руководствоваться соображениями эпидемиологической безопасности реального государственного масштаба.
Рис. 8. Заболеваемость ранними манифестными формами сифилиса (первичным и вторичным) и ранним скрытым сифилисом в РФ в период с 1973 по 2022 г. (число ежегодных случаев на 100 тыс. населения)
Fig. 8. The incidence of early manifest forms of syphilis (primary and secondary) and early latent syphilis in Russian Federation between 1973 and 2022 (annual cases per 100,000 population)
Рис. 9. Заболеваемость ранними и поздними формами сифилиса в РФ в период с 1973 по 2022 г. (число ежегодных случаев на 100 тыс. населения)
Fig. 9. The incidence of early and late forms of syphilis in Russian Federation between 1973 and 2022 (number of annual cases per 100,000 population)
На фоне общего снижения заболеваемости, наблюдавшегося в России с 1998 по 2020 г., установилась негативная тенденция к росту доли скрытых (рис. 8) и поздних форм сифилиса (рис. 9) в общей структуре заболеваемости, числа случаев нейросифилиса, особенно позднего (рис. 10), и позднего кардиоваскулярного сифилиса (рис. 11) [1–11].
Рис. 10. Число случаев нейросифилиса в РФ в период с 2002 по 2022 г.
Fig. 10. The number of cases of neurosyphilis in Russian Federation between 2002 and 2022
Рис. 11. Число случаев позднего сифилиса сердечно-сосудистой системы в РФ с 2012 по 2022 г.
Fig. 11. The number of cases of late cardiovascular syphilis in Russian Federation from 2012 to 2022
Для сравнения: в период 1979–1989 гг. в России число зарегистрированных случаев позднего сифилиса сердечно-сосудистой системы варьировало от 18 до 20, позднего нейросифилиса — от 46 до 89 случаев, а их доля в общей структуре заболеваемости не превышала 0,16 и 0,9% соответственно. В 2009–2019 гг. ежегодное число зарегистрированных случаев позднего кардиоваскулярного сифилиса варьировало от 21 до 184, позднего нейросифилиса — от 504 до 1263, а доля этих клинических форм сифилиса возросла до 0,7 и 5,0% соответственно. Таким образом, сравнивая период относительно спокойной эпидемической ситуации в стране в 2009–2019 гг. со столь же благополучными 1979–1989 гг., мы можем отметить нетипичный более чем девятикратный рост числа случаев кардиоваскулярного сифилиса (с 20 до 184 случаев) и почти четырнадцатикратный — нейросифилиса (с 89 до 1229 случаев).
Проблема сифилиса и других ИППП тесно связана с целым комплексом проблем репродуктивного здоровья. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, сифилис во время беременности ежегодно становится причиной более чем 300 000 случаев смерти плода и новорожденных, а еще 215 000 грудных детей подвергаются риску гибели в раннем возрасте [43]. Гонококковая инфекция и урогенитальный хламидиоз являются причинами бесплодия в значительном проценте случаев. Инфицирование вирусом папилломы человека высокого онкогенного риска ежегодно приводит к 530 000 случаев цервикального рака и 264 000 случаев смерти, вызванных этим онкологическим заболеванием [43]. Малосимптомное и бессимптомное течение ИППП — одна из основных причин несвоевременного обращения за медицинской помощью, приводящая к серьезным осложнениям со стороны репродуктивной системы: у женщин — к воспалительным заболеваниям органов малого таза, развитию эктопической беременности, трубному бесплодию, у мужчин — к орхитам, эпидидимитам, простатитам. Все вышеперечисленные заболевания нередко являются первопричиной нарушения репродуктивной функции. Ежегодно в европейских странах регистрируется около миллиона случаев сальпингитов, 10% из которых приводят к бесплодию. При этом около 600 тысяч случаев сальпингитов ассоциировано с хламидийной инфекцией, а каждый новый эпизод заболевания увеличивает вероятность развития вторичного бесплодия в несколько раз [44]. В исследовании, посвященном анализу показателей заболеваемости ИППП, воспалительными заболеваниями органов малого таза и бесплодием в Российской Федерации и в ее субъектах, было установлено, что заболеваемость ИППП в группе женщин репродуктивного возраста (18–49 лет) является одним из основных факторов, способствующих и предопределяющих развитие состояний, ведущих к развитию ВЗОМТ. В наибольшей степени уровень заболеваемости ВЗОМТ и женским бесплодием коррелировал с уровнем заболеваемости урогенитальным хламидиозом и гонококковой инфекцией [45].
Продолжающийся рост заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции в России также тесно взаимосвязан с заболеваемостью ИППП: многочисленные исследования, проведенные в различных странах, доказали, что наличие ИППП в 5–10 раз увеличивает вероятность как приобретения, так и передачи ВИЧ при незащищенном половом контакте (эпидемиологический синергизм) [46]. С одной стороны, ИППП повышают восприимчивость к заражению ВИЧ за счет нарушения целостности слизистой оболочки половых путей и привлечения клеток воспаления, которые и являются мишенью для вируса [47]. С другой стороны, на фоне сопутствующих ИППП увеличивается вирусовыделение у инфицированных лиц, то есть они становятся более заразными для своих партнеров [46, 47]. Наибольший риск заражения ВИЧ возникает при генитальном герпесе и сифилисе [47–49], сопровождающихся мокнущими, кровоточащими высыпаниями в области гениталий. Даже субклиническая (наиболее частая) форма инфекции, вызванной вирусом простого герпеса 2-го типа (ВПГ-2), ассоциирована с повышенной восприимчивостью к заражению ВИЧ, а также с усиленной репликацией вируса в слизистой оболочке и повышением уровня вирусной РНК в сыворотке ВИЧ-инфицированных [48]. «Неязвенные» ИППП (хламидиоз, гонорея, трихомониаз) и бактериальный вагиноз в силу малосимптомной персистенции и бóльшей распространенности в популяции также вносят существенный вклад в расширение эпидемии ВИЧ-инфекции [49].
Идеальное, быстрое и надежное с точки зрения эпидемиологии решение проблемы сифилиса и других ИППП — прерывание эпидемических цепочек распространения инфекций — оказывается нереализуемым в полном объеме, так как половой путь передачи невозможно по понятным причинам реально контролировать/регулировать. Именно поэтому другие составляющие программ профилактики — раннее выявление, эффективное лечение, коррекция поведения — играют такую важную роль, и их разработка имеет принципиальное, государственное значение, особенно при ответственном осознании обществом влияния сифилиса и других ИППП на решение важных задач сохранения репродуктивного здоровья нации.
Нельзя не отметить, что и в ЦНИКВИ/ГНЦДК, и в регионах России дерматовенерологи понимали важность и необходимость разработки программ профилактики сифилиса и других ИППП. В частности, достаточно широкомасштабное клинико-эпидемиологическое исследование ИППП в различных группах населения было проведено в 1998–2004 гг. в Новосибирске [50, 51], серия когортных исследований, направленных на разработку адресных программ профилактики ВИЧ и ИППП в группах ПИН и пациентов венерологического отделения КВД — в 2000–2012 гг. в Санкт-Петербурге [23, 39, 40]. В фокусе внимания при разработке превентивных вмешательств находились представители социально уязвимых групп населения — лица, склонные к рискованному поведению, не желающие или не имеющие возможности снизить риск и получить доступ к качественной медицинской помощи. Было показано, что наибольшая эффективность профилактических вмешательств достигается в том случае, если они являются:
- направленными на предупреждение заражения (первичную профилактику);
- поведенческими (нацелены на изменение поведения, способствующего заражению);
- адресными (ориентированы на применение в конкретных субпопуляциях повышенного поведенческого риска);
- теоретически обоснованными (базируются на общепризнанных научных концепциях коррекции поведения);
- мультидисциплинарными (предусматривают участие и тесное взаимодействие команды специалистов различного профиля в ведении одного пациента);
- пациент-центрированными (учитывают интересы, особенности и потребности конкретного представителя целевой группы и предусматривают индивидуальную стратегию и тактику его сопровождения);
- адаптированными к социально-экономическим, культурно-историческим, религиозным особенностям сообщества, в котором будут применяться [30].
Проведенные исследования создали методологическую и практическую основу для разработки комплексной всеобъемлющей программы профилактики ИППП в государственном масштабе. Всероссийская превентивная программа должна осуществляться на разных уровнях — страны, региона, города — и объединять усилия и меры, предпринимаемые не только Министерством здравоохранения РФ, но и другими министерствами и ведомствами, ответственными за свои области и направления.
В связи с высоким уровнем заболеваемости ИППП в России в 2002 г. была принята к реализации Подпрограмма «О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем» Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002–2006 гг.)», которая продолжилась и в 2007–2012 гг. (Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2012)»). Задачи подпрограмм включали реализацию мероприятий, направленных не только на повышение качества и доступности медицинской помощи больным ИППП, но и на профилактику их распространения, в том числе:
- совершенствование методов профилактики ИППП, включая разработку информационных материалов и образовательных программ для населения;
- разработку и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при ИППП;
- совершенствование системы мониторинга устойчивости возбудителей ИППП к применяемым лекарственным препаратам;
- совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей ИППП;
- строительство и реконструкцию специализированных медицинских учреждений и оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных ФСИН.
Несмотря на высокий уровень заболеваемости ИППП среди несовершеннолетних в 1990–2000-х гг., в Российской Федерации практически отсутствовали разработанные на федеральном уровне профилактические программы, направленные на мотивацию молодежи к сохранению репродуктивного здоровья, а также система оказания специализированной медицинской помощи подросткам с ИППП. С начала 1990-х гг. общественные российские и зарубежные организации проводили единичные профилактические программы, в основном направленные на использование методов барьерной контрацепции, но проведенные эпидемиологические исследования показали недостаточную эффективность данного метода профилактической работы. Основной целью разрабатываемых программ по профилактике ИППП должна была являться пропаганда сексуальной культуры, направленная на снижение числа сексуальных партнеров и формирование ответственного отношения к своему репродуктивному здоровью и здоровью полового партнера. Для внедрения программ профилактики ИППП должна была быть интегрирована деятельность врачей-дерматовенерологов, представителей систем образования и оказания социально-психологической помощи детям и подросткам.
В 2004–2011 гг. в рамках реализации мероприятий федеральных целевых программ была организована деятельность специализированных подростковых центров профилактики и лечения ИППП в 65 субъектах Российской Федерации, в которых был реализован комплексный подход, включающий не только организацию лечебно-диагностической помощи несовершеннолетним, в том числе беспризорным, но и психолого-социальную поддержку, проведение социально-психологической реабилитации молодежи из групп риска по ИППП, а также организацию первичной и вторичной профилактики ИППП среди несовершеннолетних. Благодаря созданию и внедрению в регионах Российской Федерации современной модели оказания специализированной помощи молодежи удалось достичь стандартизации оказания медицинской помощи детям и подросткам с урогенитальными инфекционными заболеваниями. Итогом реализации мероприятий Программы явились стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространением ИППП в России, и снижение заболеваемости ИППП среди подростков. Так, с начала реализации программы в 2004 г. и к моменту ее окончания удалось снизить уровень заболеваемости сифилисом среди подросткового населения с 86,7 до 35,2 случая на 100 000 населения, гонококковой инфекцией — с 70,2 до 28,5 случая на 100 000 населения.
В области профилактики сифилиса основную роль в своевременном прерывании эпидемической цепочки, проведении эффективной терапии и предупреждении развития поздних форм заболевания играет серологический скрининг, направленный на максимально раннее выявление пациентов, особенно со скрытыми формами сифилиса — наиболее опасными в эпидемиологическом плане как источники заражения новых лиц и потенциальный источник формирования висцеральных поражений и сифилиса нервной системы. Еще в 1961 г. Главным государственным санитарным инспектором СССР была утверждена инструкция по проведению обязательных профилактических медицинских обследований у лиц декретированных профессий. Исходя из данного документа, работники должны были проходить осмотр у врача-дерматовенеролога и лабораторные обследования на венерические заболевания в кожно-венерологических учреждениях 4 раза в год с интервалом 3 месяца. В результате таких обследований выявляли до 81% всех случаев сифилиса. В 1987 г. в период низкой заболеваемости сифилисом (5,1 случая на 100 тыс. населения) медосмотры для декретированных контингентов населения стали обязательными один раз в 6–12 месяцев (по Инструкции об обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских обследованиях, утвержденной Главным государственным санитарным врачом СССР 24 декабря 1987 г. № 4538-87), в результате чего доля больных сифилисом, выявленных при медосмотрах, начала снижаться и в 1992 г. составила 66%. На фоне развивающейся эпидемии сифилиса Минздравом РФ был издан приказ № 286 от 7 декабря 1993 г., регламентирующий проведение осмотров на ИППП на базе кожно-венерологических учреждений, что позволило обеспечить преемственность между кабинетами медосмотров и лечебными подразделениями специализированной службы. В настоящее время проведение медицинских осмотров регламентируется приказом Минздрава РФ № 29н от 28 января 2021 г. (ранее — приказом Минздрава РФ № 302н от 12 апреля 2011 г.), который предусматривает обследование на сифилис один раз в 12 месяцев. При этом доля больных сифилисом, выявленных при всех видах медосмотров, не превышает 10% (без учета мигрантов). Отметим также, что в 1990-е гг. началось реформирование системы здравоохранения с образованием частных медицинских организаций, в том числе по оказанию услуг медицинского осмотра работников. В силу территориальной доступности, финансовой выгоды и быстроты получения результатов обследования значительная часть представителей декретированных контингентов прибегает к услугам именно частных медицинских организаций. Проведение медицинского освидетельствования иностранцев в настоящее время регламентировано положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г.
Положениями ч. 9 ст. 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации наделены полномочиями по установлению перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение соответствующего медицинского освидетельствования. Во многих регионах в такие перечни включены частные медицинские организации, в которых диагностика и терапия сифилиса нередко проводятся формально. При этом эпидемиологический контроль за распространением сифилиса и последующий клинико-серологический контроль (через 3 и 6 месяцев после проведенного лечения) не проводятся вовсе.
Общеизвестно, что правильная и своевременная диагностика и эффективная терапия могут выполняться только хорошо подготовленным специалистом. Учитывая полиорганность поражений при сифилисе, неспецифичность многих клинических проявлений, протекающих под маской других заболеваний, многовекторность негативного влияния сифилиса на показатели здоровья человека, знания об этом заболевании необходимы врачам практически всех специальностей. Именно поэтому изучение сифилиса включено в Государственный образовательный стандарт подготовки студентов. Система последипломного образования на уровне базовой подготовки специалистов в ординатуре предполагает подробное изучение вопросов сифилидологии лишь при обучении ординаторов по дерматовенерологии, однако при подготовке специалистов иных профилей эти вопросы практически не освещаются либо излагаются фрагментарно в рамках краткосрочных (и необязательных) курсов для других специальностей, проводимых на кафедрах дерматовенерологии. В ближайшее время необходимо принять решение об обязательности изучения вопросов диагностики и лечения сифилиса и других ИППП врачами смежных специальностей, скорректировать рабочие программы циклов обучения врачей в системе НМО.
Высказываемое некоторыми специалистами (к сожалению, даже дерматовенерологами) отношение к сифилису как к редкому или даже «орфанному» заболеванию, снижение в целом «сифилитической настороженности», системная зацикленность на МКБ-10, а теперь и МКБ-11, привели к тому, что современные дерматовенерологи зачастую не могут правильно сформулировать клинический диагноз, не знают особенностей и методов диагностики специфических поражений нервной системы, органов зрения, внутренних органов, не умеют правильно трактовать результаты серологических реакций. Это приводит к позднему выявлению сифилиса и его прогрессированию вплоть до тяжелых инвалидизирующих вариантов поражения. Вероятно, было бы целесообразно увеличить количество учебных часов, отведенных на изучение ИППП студентами (возможно, с выделением венерологии в отдельную дисциплину с 1–1,5 зачетными единицами), ординаторами, проводить тематические циклы по сифилидологии и ИППП для врачей-дерматовенерологов в рамках НМО. В программах подготовки врачей — не венерологов также следовало бы предусмотреть более подробное изучение проблем нейросифилиса, офтальмосифилиса, кардиоваскулярного сифилиса.
С момента открытия пенициллина в середине ХХ в. до сих пор не появилось ни одного более активного противосифилитического препарата, а достоверных случаев формирования резистентности Tr. pallidum не описано. Все используемые препараты резерва (более дорогостоящие!) менее эффективны в сравнении с пенициллином, особенно при лечении поздних форм сифилиса. При этом самый дешевый и самый эффективный на сегодняшний день препарат для лечения сифилиса — водорастворимый пенициллин и его пролонгированные варианты — фактически стал труднодоступен для закупки медицинскими учреждениями, хотя и может производиться практически в любых необходимых количествах на предприятии в г. Кургане. Основной причиной сложившейся ситуации является нежелание компаний — производителей бензилпенициллина выпускать препарат в промышленных объемах в связи с низкой предельной отпускной ценой на него при относительно высокой себестоимости. Сравнительный анализ существующих в настоящее время в мире рекомендаций по лечению сифилиса показывает, что именно пенициллин является основным и самым эффективным препаратом, а применение иных лекарственных средств допустимо лишь в случае непереносимости препаратов пенициллина [52–54]. Практикуемое в последние десятилетия — и только в нашей стране! — внедрение в клиническую практику лечения сифилитической инфекции менее эффективных и более дорогих препаратов по сути своей является снижением качества оказываемой медицинской помощи, а неудачи лечения такими препаратами проявляются развитием скрытых и поздних форм сифилиса, лечение которых является и более сложным, и более дорогим по выполнению процессом.
Исторический опыт показал жизненность и эффективность диспансерного принципа организации работы дерматологической службы, прежде всего в области ведения пациентов с сифилисом и другими ИППП. Именно укрепление диспансерного подхода позволит и в дальнейшем поддерживать высокое качество оказания специализированной медицинской помощи. Прием дерматолога в кабинете при поликлинике — не лучшая форма получения дерматовенерологической помощи как в плане ее доступности для пациентов с ИППП, в том числе с сифилисом, так и в плане качества.
Именно дерматовенерологическая служба, с учетом имеющегося опыта, подготовленных кадров, широты охвата населения в регионах и доступности, должна стать основой и координатором развития системы раннего выявления и профилактики сифилиса и других ИППП, но с обязательным, скоординированным конкретными организационными решениями участием всех смежных специалистов. При этом не вызывает сомнения целесообразность сохранения и укрепления системы КВД, расширения их функций в части вопросов охраны репродуктивного здоровья, введение в штат КВД необходимых смежных специалистов по этим вопросам, возможно, формирование специализированных отделений репродуктивного здоровья. Именно на базе КВД логично вместе со всеми заинтересованными участниками формировать постоянную целенаправленную профилактическую работу с населением по вопросам ИППП, в том числе сифилиса, репродуктивного здоровья. Положительный опыт работы в этих направлениях центров специализированной медицинской помощи, созданных в некоторых регионах России именно на базе КВД, мы в настоящее время видим. Участие в работе таких центров врачей смежных специальностей способствует расширению спектра, повышению качества и доступности специализированной медицинской помощи.
Отдельного внимания заслуживает рост числа случаев сифилиса, выявляемых у иностранных граждан — мигрантов. Если до периода эпидемии новой коронавирусной инфекции в стране темпы снижения заболеваемости сифилисом составляли в среднем 11% в год, то в 2021 г. впервые за долгое время был зарегистрирован рост данного показателя на 39,4%, а в 2022 г. — на 30,3%. Таким образом, за 2021–2022 гг. суммарный прирост показателя заболеваемости сифилисом в целом по стране составил +69,7%, что во многом обусловлено увеличением данного показателя среди иностранных граждан (с 2801 случая в 2020 г. до 12 748 случаев в 2022 г.). В 2022 г. доля иностранцев среди всех впервые выявленных пациентов с сифилисом достигла 45,9%. Среди граждан Российской Федерации в 2021 г. также был зарегистрирован рост заболеваемости сифилисом на 8,2% (с 8,5 случая в 2020 г. до 9,2 — в 2021 г.). В 2022 г. заболеваемость сифилисом составила 10,3 случая на 100 тыс. населения, но она продолжает оставаться ниже уровня доковидного периода с сохранением общей тенденции к снижению на 13,4% ежегодно. Учитывая законы эпидемического процесса, мы можем в ближайшие годы ожидать и роста заболеваемости сифилисом среди граждан Российской Федерации, что требует непрерывного мониторинга сложившейся ситуации. Конечно же, эти вопросы подлежат прежде всего тщательному обсуждению и оценке со стороны дерматовенерологической службы, смежных специалистов, организаторов здравоохранения.
Исходя из вышеизложенного, считаем необходимой и безотлагательной задачей в настоящее время разработку государственной междисциплинарной программы по вопросам эпидемиологического мониторинга, повышения качества диагностики и эффективности терапии, а также профилактики распространения сифилиса и других ИППП, контроля за факторами, негативно влияющими на репродуктивное здоровье нации. Такая программа должна быть междисциплинарной, постоянно действующей, иметь устойчивое государственное финансирование (федеральное и региональное), критерии оценки эффективности, стать прочной постоянной основой для формирования не только вертикальных, но и горизонтальных связей между участниками ее исполнения. В качестве ее составных частей/направлений могут быть предложены следующие:
- разработка междисциплинарной системы комплексного статистического мониторинга заболеваний, влияющих на репродуктивное здоровье населения, данные которой должны быть доступны для специалистов;
- организация постоянного междисциплинарного взаимодействия по профилактике врожденного сифилиса [55];
- разработка и совершенствование методов лабораторной диагностики, четких алгоритмов серодиагностики и терапии ИППП, в том числе сифилиса;
- устойчивое обеспечение лечебных учреждений препаратами пенициллина для лечения сифилиса;
- разработка и внедрение постоянно действующей системы профилактики ИППП, в том числе сифилиса, среди уязвимых групп населения (подростки, беременные, наркопотребители, ВИЧ-инфицированные и др.);
- совершенствование системы профилактических медицинских осмотров населения с регулярным пересмотром контингентов лиц в зависимости от эпидемиологической ситуации;
- совершенствование системы скрининга на сифилис и ВИЧ (все ВИЧ-инфицированные должны быть обследованы на сифилис, и наоборот);
- совершенствование мер эпидемиологического контроля ИППП среди мигрантов;
- проведение широкомасштабных клинико-эпидемиологических исследований сифилиса, а также исследований, направленных на оценку эффективности терапии, в том числе антибиотиками резерва;
- разработка и внедрение в систему высшего медицинского образования циклов изучения ИППП, в том числе сифилиса; в систему НМО — обязательных для врачей курсов и циклов подготовки по вопросам диагностики сифилиса, ведения пациентов с различными его проявлениями врачами разных специальностей, взаимосвязи репродуктивного здоровья, сифилиса и других ИППП.
В связи с распространенностью случаев сифилиса среди мигрантов представляется целесообразным:
- Предусмотреть сокращение сроков, в течение которых иностранцы, прибывшие в Российскую Федерацию, обязаны пройти:
- медицинское освидетельствование (например, до 7 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию);
- повторное медицинское освидетельствование (предусмотрев обязанность его прохождения в той же медицинской организации).
- Ограничить возможность прохождения медицинского освидетельствования иностранцев на наличие или отсутствие у них сифилиса (и соответствующего лечения с последующим клинико-серологическим наблюдением) только медицинскими организациями государственной формы собственности.
- Установить обязанность въезжающих на территорию Российской Федерации членов семей иностранцев, у которых выявлен сифилис, пройти медицинское освидетельствование в соответствующих медицинских организациях.
- Сократить сроки депортации иностранцев, страдающих сифилисом, в случае их отказа от прохождения специфического лечения и клинико-серологического наблюдения.
- Усилить контроль за обследованием на сифилис иностранцев из стран с повышенным уровнем заболеваемости сифилисом.
- Включить в создаваемый Минздравом России Федеральный регистр инфекционных заболеваний раздел по сифилису.
- Обеспечить доступность (ценовую и ассортиментную) лекарственных препаратов для лечения больных сифилисом (прежде всего водорастворимыми и пролонгированными формами пенициллина, а также отдельными антибиотиками группы резерва, эффективными при данной инфекции).
Заключение
Не вызывает сомнения актуальность и необходимость неотложного принятия в нашей стране эффективных мер по ограничению заболеваемости инфекциями с половым путем передачи, заражение которыми определяется почти исключительно поведенческими факторами, которые оказывают прямое и опосредованное влияние на репродуктивное здоровье, распространяются во всех группах населения, зачастую имеют скрытое течение с исходом в инвалидизирующие формы поражений нервной системы, органов зрения, сердечно-сосудистой системы. Разработка и внедрение постоянно действующей Государственной междисциплинарной программы, направленной на решение вопросов мониторинга, контроля, диагностики, лечения, профилактики ИППП, в том числе сифилиса, контроль за факторами, негативно влияющими на репродуктивное здоровье нации, будет действенным инструментом решения проблем, освещенных в этой публикации.
Конфликт интересов: авторы данной статьи подтвердили отсутствие конфликта интересов, о котором необходимо сообщить.
Источник финансирования: работа выполнена и опубликована за счет финансирования по месту работы авторов.
Conflict of interest: the authors of this article have confirmed that there is no conflict of interest to declare.
Source of funding: the preparation of the manuscript was carried out by the means of the author's team.
Участие авторов: обоснование рукописи, поисково-аналитическая работа, анализ литературных данных и их интерпретация, написание статьи, одобрение рукописи и направление рукописи на публикацию — все соавторы статьи в равной степени.
Authors' participation: justification of the manuscript, literature analysis and interpretation, writing an article, approval of the submission of the manuscript for publication — all co-authors of the article equally.
About the authors
Tatiana V. Krasnoselskikh
First Pavlov State Medical University of Saint Petersburg
Author for correspondence.
Email: tatiana.krasnoselskikh@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-2278-5393
SPIN-code: 1214-8876
Scopus Author ID: 23390046900
ResearcherId: T-5370-2018
MD, Dr. Sci. (Med.), Associate Professor
Russian Federation, 6–8 Lev Tolstoy street, 197022 Saint PetersburgEvgeny V. Sokolovskiy
First Pavlov State Medical University of Saint Petersburg
Email: s40@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7610-6061
SPIN-code: 6807-7137
Scopus Author ID: 23669241000
ResearcherId: AAL-7772-2020
MD, Dr. Sci. (Med.), Professor
Russian Federation, 6–8 Lev Tolstoy street, 197022 Saint PetersburgMargarita R. Rakhmatulina
State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
Email: rahmatulina@cnikvi.ru
ORCID iD: 0000-0003-3039-7769
SPIN-code: 6222-8684
MD, Dr. Sci. (Med), Professor
Russian Federation, 3 bldg 6 Korolenko street, 107076 MoscowElena Yu. Novoselova
State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
Email: novoselova@cnikvi.ru
ORCID iD: 0000-0003-1907-2592
Methodologist
Russian Federation, 3 bldg 6 Korolenko street, 107076 MoscowLidia E. Melekhina
State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
Email: stat@cnikvi.ru
ORCID iD: 0009-0004-0150-9287
SPIN-code: 5992-6450
Senior Research Associate
Russian Federation, 3 bldg 6 Korolenko street, 107076 MoscowReferences
- Кубанова А.А., Тихонова Л.И. Дерматовенерология в России. Реальность и перспективы. Вестник дерматологии и венерологии. 2004;(2):4–11 [Kubanova AA, Tikhonova LI. Dermatovenereology in Russia. Reality and prospects. Vestnik dermatologii i venerologii. 2004;(2):4–11. (In Russ.)]
- Заболеваемость, ресурсы и деятельность дерматовенерологических учреждений (2008–2009 гг.): (статистические материалы). М.; 2010. 149 с. [Zabolevaemost', resursy i dejatel'nost' dermato-venerologicheskih uchrezhdenij (2008–2009 gg.): (statisticheskie materialy). (Morbidity, resources and activities of dermatovenereological institutions (2008–2009): (statistical materials).) Moscow; 2010. 149 p. (In Russ.)]
- Ресурсы и деятельность кожно-венерологических учреждений. Заболеваемость за 2009–2010 годы: статистические материалы. М.: Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения; 2011. 105 с. [Resursy i dejatel'nost' kozhno-venerologicheskih uchrezhdenij. Zabolevaemost' za 2009–2010 gody: statisticheskie materialy. (Resources and activities of skin and venereological institutions. Morbidity in 2009–2010: statistical materials.) Moscow: Central'nyj nauchno-issledovatel'skij institut organizacii i informatizacii zdravoohranenija; 2011. 105 p. (In Russ.)]
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и болезнями кожи: статистические материалы. М.: Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения; 2013. 220 с. [Resursy i dejatel'nost' medicinskih organizacij dermatovenerologicheskogo profilja. Zabolevaemost' infekcijami, peredavaemymi polovym putem, zaraznymi kozhnymi boleznjami i boleznjami kozhi: statisticheskie materialy. (Resources and activities of medical organizations of dermatovenerological profile. The incidence of sexually transmitted infections, infectious skin diseases and skin diseases: statistical materials.) Moscow: Central'nyj nauchno-issledovatel'skij institut organizacii i informatizacii zdravoohranenija; 2013. 220 p. (In Russ.)]
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и болезнями кожи: статистические материалы. М.: Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения; 2015. 213 с. [Resursy i dejatel'nost' medicinskih organizacij dermatovenerologicheskogo profilja. Zabolevaemost' infekcijami, peredavaemymi polovym putem, zaraznymi kozhnymi boleznjami i boleznjami kozhi: statisticheskie materialy. (Resources and activities of medical organizations of dermatovenerological profile. The incidence of sexually transmitted infections, infectious skin diseases and skin diseases: statistical materials.) Moscow: Central'nyj nauchno-issledovatel'skij institut organizacii i informatizacii zdravoohranenija; 2015. 213 p. (In Russ.)]
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и болезнями кожи: статистические материалы. М.: Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения; 2016. 212 с. [Resursy i dejatel'nost' medicinskih organizacij dermatovenerologicheskogo profilja. Zabolevaemost' infekcijami, peredavaemymi polovym putem, zaraznymi kozhnymi boleznjami i boleznjami kozhi: statisticheskie materialy. (Resources and activities of medical organizations of dermatovenerological profile. The incidence of sexually transmitted infections, infectious skin diseases and skin diseases: statistical materials.) Moscow: Central'nyj nauchno-issledovatel'skij institut organizacii i informatizacii zdravoohranenija; 2016. 212 p. (In Russ.)]
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и болезнями кожи за 2015–2016 годы: статистические материалы. М.: Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения; 2017. 210 с. [Resursy i dejatel'nost' medicinskih organizacij dermatovenerologicheskogo profilja. Zabolevaemost' infekcijami, peredavaemymi polovym putem, zaraznymi kozhnymi boleznjami i boleznjami kozhi za 2015–2016 gody: statisticheskie materialy. (Resources and activities of medical organizations of dermatovenerological profile. The incidence of sexually transmitted infections, infectious skin diseases and skin diseases for 2015–2016: statistical materials.) Moscow: Central'nyj nauchno-issledovatel'skij institut organizacii i informatizacii zdravoohranenija; 2017. 210 p. (In Russ.)]
- Александрова Г.А., Кубанов А.А., Мелехина Л.Е., и др. Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и болезнями кожи в 2016–2017 годы: статистические материалы. М.: Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения; 2018. 213 с. [Aleksandrova GA, Kubanov AA, Melehina LE, et al. Resursy i dejatel'nost' medicinskih organizacij dermatovenerologicheskogo profilja. Zabolevaemost' infekcijami, peredavaemymi polovym putem, zaraznymi kozhnymi boleznjami i boleznjami kozhi v 2016–2017 gody: statisticheskie materialy. (Resources and activities of medical organizations of dermatovenerological profile. The incidence of sexually transmitted infections, infectious skin diseases and skin diseases in 2016–2017: statistical materials.) Moscow: Central'nyj nauchno-issledovatel'skij institut organizacii i informatizacii zdravoohranenija; 2018. 213 p. (In Russ.)]
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и болезнями кожи за 2017–2018 годы: статистические материалы. М.: Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения; 2019. 208 с. [Resursy i dejatel'nost' medicinskih organizacij dermatovenerologicheskogo profilja. Zabolevaemost' infekcijami, peredavaemymi polovym putem, zaraznymi kozhnymi boleznjami i boleznjami kozhi za 2017–2018 gody: statisticheskie materialy. (Resources and activities of medical organizations of the dermatovenerological profile. The incidence of sexually transmitted infections, contagious skin diseases and skin diseases for 2017–2018: statistical materials.) Moscow: Central'nyj nauchno-issledovatel'skij institut organizacii i informatizacii zdravoohranenija; 2019. 208 p. (In Russ.)]
- Александрова Г.А., Мелехина Л.Е., Богданова Е.В., и др. Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и болезнями кожи в 2018–2019 годы: статистические материалы. М.: Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения; 2020. 213 с. [Aleksandrova GA, Melehina LE, Bogdanova EV, et al. Resursy i dejatel'nost' medicinskih organizacij dermatovenerologicheskogo profilja. Zabolevaemost' infekcijami, peredavaemymi polovym putem, zaraznymi kozhnymi boleznjami i boleznjami kozhi v 2018–2019 gody: statisticheskie materialy. (Resources and activities of medical organizations of dermatovenerological profile. Incidence of sexually transmitted infections, infectious skin diseases and skin diseases in 2018–2019: statistical materials.) Moscow: Central'nyj nauchno-issledovatel'skij institut organizacii i informatizacii zdravoohranenija; 2020. 213 p. (In Russ.)]
- Кубанов А.А., Богданова Е.В. Результаты деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «дерматовенерология», в 2019–2021 гг. в Российской Федерации. Вестник дерматологии и венерологии. 2022;98(5):18–33 [Kubanov AA, Bogdanova EV. Performance results of medical organizations providing medical care in the field of dermatovenereology in 2019-2021 in the Russian Federation. Vestnik dermatologii i venerologii. 2022;98(5):18–33. (In Russ.)] doi: 10.25208/vdv1337
- Степаненко В.И., Коляденко В.Г., Глухенький Б.Т. Сифилис в Российской империи. Заболеваемость и борьба с сифилисом в Советском Союзе и Украине. Украинский журнал дерматологии, венерологии, косметологии. 2003;(2):77–82 [Stepanenko VI, Koljadenko VG, Glukhen’kij BT. Syphilis in the Russian Empire. Incidence and control of syphilis in the Soviet Union and Ukraine. Ukrainskij zhurnal dermatologii, venerologii, kosmetologii. 2003;(2):77–82. (In Russ.)]
- Белова-Рахимова Л.В., Прохоренков В.И., Гузей Т.Н. Пути развития венерологии в России и СССР (1950–1959). Вестник дерматологии и венерологии. 2015;(2):141–147 [Belova-Rahimova LV, Prohorenkov VI, Guzej TN. Trends in Russian and USSR venerology development (1950–1959). Vestnik dermatologii i venerologii. 2015;(2):141–147. (In Russ.)]
- Студницын А.А., Туранов Н.М. О мероприятиях по ликвидации заразных форм сифилиса в СССР. Вестник дерматологии и венерологии. 1962;(11):3–7 [Studnicyn AA, Turanov NM. On measures to eliminate infectious forms of syphilis in the USSR. Vestnik dermatologii i venerologii. 1962;(11):3–7. (In Russ.)]
- Привалова Н.К., Тихонова Л.И. Заболеваемость сифилисом в Российской Федерации: анализ тенденций и прогноз развития эпидемической ситуации. Инфекции, передаваемые половым путем. 2000;(5):35–40 [Pryvalova NK, Tihonova LI. Syphilis incidence in the Russian Federation: analysis of trends and forecast of the development of the epidemic situation. Infekcii, peredavaemye polovym putem. 2000;(5):35–40. (In Russ.)]
- Колокольчикова Р.С. Обострение эпидемической обстановки по «галльской болезни» на Европейском Севере России в конце 1960-х — начале 1980-х годов: исторический опыт борьбы с инфекцией. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2019;(4):16–25 [Kolokol'chikova RS. The aggravation of the epidemic situation due to the "Gallic disease" in the European North of Russia in the late 1960s — early 1980s: historical experience in the fight against infection. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Serija "Gumanitarnye i social'nye nauki". 2019;(4):16–25. (In Russ.)] doi: 10.17238/issn2227-6564.2019.4.16
- Яцуха М.В., Козырева Л.Т., Бобкова И.Н., Аверина В.И. Сифилитическая инфекция в России в период бурного развития и угасания эпидемического процесса. Инфекции, передаваемые половым путем. 2002;(1):41–43 [Jacuha MV, Kozyreva LT, Bobkova IN, Averina V.I. Syphilitic infection in Russia in the period of rapid increase and decrease of the epidemic process. Infekcii, peredavaemye polovym putem. 2002;(1):41–43. (In Russ.)]
- Красносельских Т.В., Соколовский Е.В. Современный сифилис: эпидемиологические тенденции и достижения в области изучения Treponema pallidum. Современные проблемы дерматовенерологии, иммунологии и врачебной косметологии. 2010;(1):84–87 [Krasnosel'skih TV, Sokolovskij EV. Modern syphilis: epidemiological trends and achievements in the study of Treponema pallidum. Sovremennye problemy dermatovenerologii, immunologii i vrachebnoj kosmetologii. 2010;(1):84–87. (In Russ.)]
- Гракович Р.И., Милич М.В., Куликова Н.П. Опыт применения математического анализа для прогнозирования заболеваемости заразными формами сифилиса. Вестник дерматологии и венерологии. 1987;(8):36–41 [Grakovich RI, Milich MV, Kulikova NP. Experience in the use of mathematical analysis to predict the incidence of infectious forms of syphilis. Vestnik dermatologii i venerologii. 1987;(8):36–41. (In Russ.)]
- Александров М.В., Пирятинская В.А., Соколовский В.В. Циклический характер заболеваемости сифилисом и неспецифическая резистентность макроорганизма. Вестник дерматологии и венерологии. 1997;(3):48–51 [Aleksandrov MV, Pirjatinskaja VA, Sokolovskij VV. Cyclical nature of the syphilis incidence and nonspecific resistance of the microorganism. Vestnik dermatologii i venerologii. 1997;(3):48–51. (In Russ.)]
- Кубанова А.А., Мелехина Л.Е., Кубанов А.А., Богданова Е.В. Заболеваемость врожденным сифилисом в Российской Федерации в период 2002–2012 гг. Вестник дерматологии и венерологии. 2013;89(6):24–31 [Kubanova AA, Melehina LE, Kubanov AA, Bogdanova EV. Incidence of congenital syphilis in Russian Federation in 2002–2012. Vestnik dermatologii i venerologii. 2013;89(6):24–31. (In Russ.)] doi: 10.25208/vdv574
- Рахматулина М.Р., Мелехина Л.Е., Васильева М.Ю., Литвин О.Е. Показатели заболеваемости гонококковой инфекцией Российской Федерации в период с 1999–2009 годы. Вестник дерматологии и венерологии. 2011;87(3):8–17 [Rahmatulina MR, Melehina LE, Vasil’ieva MJu, Litvin OE. Gonococcal infection incidence rate in the Russian Federation in 1999–2009. Vestnik dermatologii i venerologii. 2011;87(3):8–17. (In Russ.)]
- Красносельских Т.В., Шаболтас А.В., Веревочкин С.В., Козлов А.П. Поведенческие детерминанты риска заражения ВИЧ и инфекциями, передаваемыми половым путем, у потребителей инъекционных наркотиков. Вестник Санкт-Петербургского университета. Cерия 12 «Психология, социология, педагогика». 2011;(1):255–267 [Krasnosel’skih TV, Shaboltas AV, Verevochkin SV, Kozlov AP. Behavioural determinants of HIV and STI risk in injecting drug users. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Cerija 12 "Psihologija, sociologija, pedagogika". 2011;(1):255–267. (In Russ.)]
- Красносельских Т.В., Манашева Е.Б., Гезей М.А. Коморбидность сифилиса и ВИЧ-инфекции: отрицательный эпидемиологический и клинический синергизм. ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2018;10(3):7–16 [Krasnosel’skih TV, Manasheva ЕB, Gezej MА. Syphilis and HIV comorbidity: negative clinical and epidemiologic synergy. VICh-infekcija i immunosupressii. 2018;10(3):7–16. (In Russ.)] doi: 10.22328/2077-9828-2018-10-3-7-16
- Бородкина О.И. Социальный контекст эпидемии ВИЧ/СПИДа в России. Журнал исследований социальной политики. 2008;6(2):151–176 [Borodkina OI. The social context of the HIV/AIDS epidemic in Russia. Zhurnal issledovanij social'noj politiki. 2008;6(2):151–176. (In Russ.)]
- Турсунов Р.А. Особенности эпидемиологии ВИЧ-инфекции, сочетанной с сифилисом. Тихоокеанский медицинский журнал. 2014;(4):26–28 [Tursunov RA. Features of the epidemiology of HIV infection associated with syphilis. Tihookeanskij medicinskij zhurnal. 2014;(4):26–28. (In Russ.)]
- Елькин В.Д., Коломойцев А.В., Снычева М.А. Случай сифилитической ресуперинфекции у ВИЧ-инфицированного. Российский журнал кожных и венерических болезней. 2012;15(6):66–67 [El'kin VD, Kolomojcev AV, Snycheva MA. A case of syphilitic resuperinfection in a HIV-infected patient. Rossijskij zhurnal kozhnyh i venericheskih boleznej. 2012;15(6):66–67. (In Russ.)] doi: 10.17816/dv36795
- Кулешов А.Н., Левощенко Е.П., Сакания Л.Р., Корсунская И.М. Сифилис и ВИЧ: случаи из практики. Дерматология. Приложение к журналу Consilium Medicum. 2017;(2):37–39 [Kuleshov AN, Levoshhenko EP, Sakanija LR, Korsunskaja IM. Syphilis and HIV: clinical case. Dermatologija. Prilozhenie k zhurnalu Consilium Medicum. 2017;(2):37–39. (In Russ.)]
- Чеботарёв В.В., Чеботарёва Н.В. Актуальность нового алгоритма лечения больных сифилисом. Альманах клинической медицины. 2007;(15):119–122 [Chebotarjov VV, Chebotarjova NV. The relevance of the new algorithm for the treatment of patients with syphilis. Al'manah klinicheskoj mediciny. 2007;(15):119–122. (In Russ.)]
- Красносельских Т.В., Соколовский Е.В. Стратегии и методологические основы профилактики инфекций, передаваемых половым путем, в субпопуляциях повышенного поведенческого риска заражения. Вестник дерматологии и венерологии. 2016;92(1):21–31 [Krasnosel'skih TV, Sokolovskij EV. Strategies and methodological basics for prevention of sexually transmitted infections in the high-risk subpopulations. Vestnik dermatologii i venerologii. 2016;92(1):21–31. (In Russ.)] doi: 10.25208/0042-4609-2016-92-1-21-31
- Рахматулина М.Р. Новые подходы к оказанию специализированной дерматовенерологической помощи социально неблагополучным группам детей и подростков. Вестник дерматологии и венерологии. 2006;82(5):50–52 [Rahmatulina MR. New approaches to the provision of special dermatovenereological assistance to socially disadvantaged children and adolescents. Vestnik dermatologii i venerologii. 2006;82(5):50–52. (In Russ.)]
- Кубанова А.А., Лесная И.Н., Кубанов А.А., Фриго Н.В., Ротанов С.В., Рахматулина М.Р. Разработка новой стратегии контроля над распространением инфекций, передаваемых половым путем, на территории Российской Федерации. Вестник дерматологии и венерологии. 2009;85(3):4–12 [Kubanova AA, Lesnaja IN, Kubanov AA, Frigo NV, Rotanova SV, Rahmatulina MR. Development of a new strategy for management of contagious sexually transmitted infections in the Russian Federation. Vestnik dermatologii i venerologii. 2009;85(3):4–12. (In Russ.)]
- iMonitoring. (Accessed June 27, 2023). https://www.iminfin.ru
- Мавров Г.И., Нагорный А.Е., Кочетова Н.В. Анализ сексуальных сетей при инфекциях, передающихся половым путем, — новое направление исследований и практической деятельности. Дерматологiя та венерологiя. 2010;(2):18–29 [Mavrov GI, Nagornyj AE, Kochetova NV. Sexual network analysis in sexually transmitted infections — a new area of research and practice. Dermatologija ta venerologija. 2010;(2):18–29. (In Russ.)]
- Струин Н.Л., Шубина А.С. Социальные инфекции у мигрантов, факторы, способствующие заболеваемости: обзор литературы. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015;(11):676–679 [Struin NL, Shubina AS. Social infections in migrants, factors contributing to morbidity: literature review. Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. 2015;(11):676–679. (In Russ.)]
- Рузиев М.М. Особенности распространения ВИЧ-инфекции, сифилиса и вирусного гепатита среди трудовых мигрантов Республики Таджикистан. Вестник Академии медицинских наук Таджикистана. 2016;(4):86–92 [Ruziev MM. The spread of HIV infection, syphilis and viral hepatitis among labor migrants of Tajikistan. Vestnik Akademii medicinskih nauk Tadzhikistana. 2016;(4):86–92. (In Russ.)]
- Улитина И.В., Иванникова Е.Н., Сердюкова Н.Ф., Крамарь М.В. Эпидемиологическая роль мигрантов в распространении сифилиса на территории города Сургута. Здравоохранение Югры: опыт и инновации. 2015;(3):10–13 [Ulitina IV, Ivannikova EN, Serdjukova NF, Kramar’ MV. Epidemiological role of migrants in the spread of syphilis in the city of Surgut. Zdravoohranenie Jugry: opyt i innovacii. 2015;(3):10–13. (In Russ.)]
- Аглиуллина С.Т., Хасанова Г.Р. Современные стратегии профилактики ВИЧ-инфекции (обзор литературы). Acta Biomedica Scientifica. 2018;3(1):26–33 [Agliullina ST, Hasanova GR. Modern prevention strategies of HIV infection (review of literature). Acta Biomedica Scientifica. 2018;3(1):26–33. (In Russ.)] doi: 10.29413/ABS.2018-3.1.4
- Красносельских Т.В., Шаболтас А.В., Скочилов Р.В., Ураева Г.Е. Мультидисциплинарная модель профилактики инфекций, передаваемых половым путем, в группе потребителей инъекционных наркотиков. Вестник дерматологии и венерологии. 2016;(3):62–68 [Krasnosel'skih TV, Shaboltas AV, Skochilov RV, Uraeva GE. Multidisciplinary model of sexually transmitted infection prevention in the group of injecting drug users. Vestnik dermatologii i venerologii. 2016;(3):62–68. (In Russ.)] doi: 10.25208/0042-4609-2016-92-3-62-68
- Красносельских Т.В., Шаболтас А.В., Скочилов Р.В., Ураева Г.Е. Мультидисциплинарная программа профилактики инфекций, передаваемых половым путем: разработка, реализация и оценка эффективности. Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и педагогика. 2018;8(2):166–181 [Krasnosel'skih TV, Shaboltas AV, Skochilov RV, Uraeva GE. Multidisciplinary program of sexually transmitted infection prevention: development, implementation, evaluation of effectiveness. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Psihologija i pedagogika. 2018;8(2):166–181. (In Russ.)] doi: 10.21638/11701/spbu16.2018.205
- Centers for Disease Control and Prevention. The National Plan to Eliminate Syphilis from the United States. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, CDC, National Center for HIV, STD, and TB Prevention; 1999. 84 p.
- The Global elimination of congenital syphilis: rationale and strategy for action. Geneva: World Health Organization; 2007. 38 p.
- Global health sector strategy on Sexually Transmitted Infections, 2016–2021. Geneva: World Health Organization; 2016. 60 p.
- Genç M, Domeika M, Mårdh P-A. Cost-effectiveness of Screening for Chlamydia Using DNA Amplification. JAMA. 1994;271(22):1741. doi: 10.1001/jama.1994.03510460033017
- Рахматулина М.Р., Плахова К.И., Литвин О.Е., Васильева М.Ю. Анализ показателей заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, воспалительными заболеваниями органов малого таза и бесплодием в Российской Федерации и в ее субъектах. Современные проблемы дерматовенерологии, иммунологии и врачебной косметологии. 2012;(1):37–44 [Rahmatulina MR, Plahova KI, Litvin OE, Vasil’eva MJu. Analysis of the incidence rates of sexually transmitted infections, pelvic inflammatory disease, and infertility in the Russian Federation and its subjects. Sovremennye problemy dermatovenerologii, immunologii i vrachebnoj kosmetologii. 2012;(1):37–44. (In Russ.)]
- Da Ros CT, Schmitt Cda S. Global epidemiology of sexually transmitted diseases. Asian J Androl. 2008;10(1):110–114. doi: 10.1111/j.1745-7262.2008.00367.x
- Fleming DT, Wasserheit JN. From epidemiological synergy to public health policy and practice: the contribution of other sexually transmitted diseases to sexual transmission of HIV infection. Sex Transm Infect. 1999;75(1):3–17. doi: 10.1136/sti.75.1.3
- Corey L, Wald A, Celum CL, Quinn TC. The effects of herpes simplex virus-2 on HIV-1 acquisition and transmission: a review of two overlapping epidemics. J of Acquir Immune Defic Syndr. 2004;35(5):435–445. doi: 10.1097/00126334-200404150-00001
- Røttingen JA, Cameron DW, Garnett GP. A systematic review of the epidemiologic interactions between classic sexually transmitted diseases and HIV: how much really is known? Sex Transm Dis. 2001;28(10):579–597. doi: 10.1097/00007435-200110000-00005
- Хрянин А.А., Русских М.В. Совершенствование методов первичной профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции среди молодежи. Вестник дерматологии и венерологии. 2021;97(4):71–79 [Hrjanin AA, Russkih MV. Improving methods of primary prevention of STIs and HIV infection among young people. Vestnik dermatologii i venerologii. 2021;97(4):71–79. (In Russ.)] doi: 10.25208/vdv1242
- Хрянин А.А., Шпикс Т.А., Русских М.В. Сравнительный анализ полового поведения и оценка информированности об ИППП и ВИЧ-инфекции среди молодых людей двух поколений. Вестник дерматологии и венерологии. 2022;98(6):81–88 [Hrjanin AA, Shpiks TA, Russkih MV. Comparative analysis of sexual behavior and assessment of awareness of STIs and HIV infection among young people of two generations. Vestnik dermatologii i venerologii. 2022;98(6):81–88. (In Russ.)] doi: 10.25208/vdv1379
- Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, Johnston CM, Muzny CA, Park I, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1–187. doi: 10.15585/mmwr.rr7004a1
- Janier M, Unemo M, Dupin N, Tiplica GS, Potocnik M, Patel R. 2020 European guideline on the management of syphilis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021;35(3):574–588. doi: 10.1111/jdv.16946
- WHO guidelines for the treatment of Treponema pallidum (syphilis). Geneva: World Health Organization; 2016. 50 p.
- Кунгуров Н.В., Зильберберг Н.В., Сырнева Т.В., и др. Междисциплинарное взаимодействие дерматовенерологов, акушеров-гинекологов и педиатров по раннему выявлению сифилиса у беременных и профилактике врожденного сифилиса: учеб. пособие для врачей. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; 2019. 26 c. [Kungurov NV, Zil'berberg NV, Syrneva TV, et al. Mezhdisciplinarnoe vzaimodejstvie dermatovenerologov, akusherov-ginekologov i pediatrov po rannemu vyjavleniju sifilisa u beremennyh i profilaktike vrozhdennogo sifilisa: uchebnoe posobie dlja vrachej. (Interdisciplinary interaction of dermatovenerologists, obstetricians-gynecologists and pediatricians on early detection of syphilis in pregnant women and prevention of congenital syphilis: a textbook for doctors.) Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta; 2019. 26 p. (In Russ.)] ISBN 978-5-7996-2586-3
Supplementary files