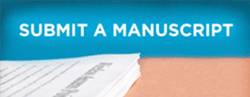Retrospective study of the clinical and epidemiological features of syphilis in patients with HIV infection in Saint Petersburg
- Authors: Krasnoselskikh T.V.1, Shved O.V.1, Manasheva E.B.1, Daniliuk M.I.1, Chirskaya M.A.2, Vinogradova T.N.2, Sokolovskiy E.V.1
-
Affiliations:
- First Pavlov State Medical University of Saint Petersburg
- Saint Petersburg Center for Control of AIDS and Infectious Diseases
- Issue: Vol 101, No 5 (2025)
- Pages: 65-77
- Section: ORIGINAL STUDIES
- Submitted: 17.07.2025
- Accepted: 28.10.2025
- Published: 25.11.2025
- URL: https://vestnikdv.ru/jour/article/view/16924
- DOI: https://doi.org/10.25208/vdv16924
- EDN: https://elibrary.ru/wgkptd
- ID: 16924
Cite item
Full Text
Abstract
Background. In the recent years, cases of syphilis and HIV infection have become more common in dermatovenerological practice due to increasing prevalence of HIV infection in the population.
Aim. Assessment of the clinical and epidemiological features of syphilis against HIV infection in modern settings.
Methods. A post-hoc analysis was conducted on the medical histories of 280 HIV-positive patients with syphilis who were under dispensary supervision at the St. Petersburg Center for AIDS and Infectious Diseases in 2018–2023.
Results. The group of patients with a combined syphilis and HIV infection was characterized by predominance of males (91.8%), young age (Q2 = 34 years), stage 4 HIV infection (66.5%), promiscuous behavior (60.8%), and homosexual contacts (67.7%). The most common clinical form of syphilis was neurosyphilis (37.2% of cases), and 61.5 % of patients had asymptomatic meningitis. The differences in the clinical presentation of syphilis in HIV-infected patients compared to the “classical” presentation were due to both immunodeficiency and behavioral characteristics of the patients which explains common occurrence of extragenital (21.1%) and multiple (63.2%) chancres as well as high frequency of recurring infection (29.0%). In 54.6% of patients, syphilis occurred without skin or mucosal lesions, making diagnosis difficult.
Conclusion. Despite the steady improvement in our knowledge of syphilis and HIV, managing patients with a combination of these infections remains a challenging task for a venereologist. Common latent course of syphilis and high prevalence of recurring infections underline the importance of regular serological screening for syphilis in HIV-infected patients. High incidence of neurosyphilis in the study group combined with its asymptomatic course requires examination of cerebrospinal fluid in all patients with coinfection.
Full Text
Обоснование
Случаи сочетания сифилиса и ВИЧ-инфекции в последнее время стали чаще встречаться в практике дерматовенерологов, что обусловлено увеличением в популяции числа лиц, живущих с ВИЧ. По данным Референс-центра по мониторингу за ВИЧ и ВИЧ-ассоциированными инфекциями ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в 2023 г. распространенность ВИЧ-инфекции в России составила 816,1 случая на 100 тыс. населения при охвате обследованием 33,4% его общей численности [1]. Лица, живущие с ВИЧ, составляют 0,8% всего населения России и 1,4% населения в возрасте от 15 до 49 лет. Новые случаи ВИЧ чаще регистрируют у мужчин: в 2023 г. заболеваемость среди взрослых граждан РФ мужского пола составила 168 случаев на 100 тыс. обследованных, в то время как среди женщин — лишь 117,8 случая на 100 тыс. Самая высокая частота выявления ВИЧ-инфекции в 2023 г. была отмечена среди мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), — положительный результат в тестах на ВИЧ продемонстрировали 20,8% образцов крови, полученных при обследовании представителей этой группы населения [1].
Заболеваемость сифилисом в России, стабильно снижавшаяся с 1997 г. и достигшая минимума в 2020 г. (10,5 на 100 тыс. населения), в постковидный период возросла до 18,9 на 100 тыс. в 2022 г. (в 1,8 раза), а в 2023 г. снизилась до 17,6 на 100 тыс. [2]. Колебания заболеваемости сифилисом в период после эпидемии новой коронавирусной инфекции эксперты объясняют увеличением регистрации случаев сифилиса среди вновь прибывших в Россию иностранных граждан-мигрантов. В общей структуре заболеваемости сифилисом доля мигрантов в 2023 г. составила 39,3% [2]. Доля ВИЧ-инфицированных среди иностранных граждан в 2023 г. составила 0,1%, или 103,4 случая на 100 тыс. обследованных [1]. Колеблющиеся и трудно прогнозируемые показатели заболеваемости сифилисом в РФ, общность условий и путей передачи ВИЧ-инфекции и сифилиса, а также пересечение контингентов лиц, подверженных риску заражения обеими инфекциями, не оставляют сомнений, что в ближайшие годы мы все чаще будем наблюдать случаи коинфекции.
В настоящее время практически считается аксиомой, что у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию (АРВТ), сифилис протекает клинически типично, ВИЧ-инфекция не влияет на результаты диагностических тестов, а стандартные схемы антибиотикотерапии не менее эффективны, чем у ВИЧ-негативных пациентов [3]. Однако в группе лиц, живущих с ВИЧ, не все получают АРВТ. Так, по данным Санкт-Петербургского Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями на 31 декабря 2024 г. среди состоявших на диспансерном учете ВИЧ-инфицированных пациентов охват АРВТ составил 87,0% [4]. Следует отметить, что это очень высокий показатель, достигнутый в короткие сроки (в конце 2019 г. он составлял 66,9% [5]). Тем не менее нельзя не учитывать, что не все ВИЧ-инфицированные имеют высокую приверженность к АРВТ, некоторые прерывают терапию по разным причинам, примерно у половины не удается подавить вирусную нагрузку. Отсутствие адекватной АРВТ может отражаться на течении сифилиса: существенно изменять клиническую картину, затруднять диагностику и снижать эффективность терапии, подобно тому, как это было описано в классических работах начального периода изучения ВИЧ-инфекции [6–8].
В связи с этим цель исследования — оценка клинических и эпидемиологических особенностей сифилиса, протекающего на фоне ВИЧ-инфекции, в современных условиях.
Методы
Дизайн исследования
Проведено ретроспективное когортное неинтервенционное исследование, объектом которого были ВИЧ-инфицированные пациенты с сифилисом, состоявшие под диспансерным наблюдением у дерматовенерологов Санкт-Петербургского Центра СПИД и инфекционных заболеваний.
Критерии соответствия
Из общего списка пациентов, находившихся под наблюдением дерматовенеролога в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», было отобрано 280 лиц, живущих с ВИЧ, которые соответствовали следующим критериям включения в исследование:
- наличие ВИЧ-инфекции, подтвержденное методом иммунного блота;
- наличие сифилиса, подтвержденное результатами нетрепонемных и трепонемных серологических тестов;
- отсутствие серологической резистентности или замедленной негативации серологических реакций после проведенного ранее лечения сифилиса.
Условия проведения
Исследование было выполнено на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и кафедры дерматовенерологии с клиникой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Продолжительность исследования
Сбор данных осуществляли в период с мая 2018 по ноябрь 2023 г.
Описание медицинского вмешательства
Выполнены выкопировка и анализ данных из медицинской документации пациентов с коинфекцией, для чего была разработана индивидуальная карта, включавшая несколько информационных блоков: раздел социально-демографических, медико-анамнестических данных; сведения об особенностях течения ВИЧ-инфекции; клинико-эпидемиологические данные о сифилисе; сведения о субъективных и объективных признаках поражения нервной системы.
Исходы исследования
Основной исход исследования. Оценка структуры клинических форм сифилиса у ВИЧ-инфицированных пациентов.
Дополнительные исходы исследования: оценка частоты встречаемости различных вариантов сифилидов при ранних манифестных формах сифилиса; оценка частоты осложнений течения сифилиса в различные его периоды; оценка частоты и особенностей клинических проявлений нейросифилиса, офтальмосифилиса; оценка частоты повторных заражений сифилисом в исследуемой группе.
Анализ в подгруппах
Критерии формирования подгрупп, в которых проводили анализ результатов исследования: пол, возраст, клиническая форма сифилиса, наличие специфического поражения нервной системы, стадия ВИЧ-инфекции, получение АРВТ.
Методы регистрации исходов
Данные пациентов вносили в специально разработанные карты в закодированной форме для последующей статистической обработки. Карты не содержали идентифицирующей участников исследования информации, сопровождались лишь индивидуальными номерами.
Этическая экспертиза
Протокол исследования был рассмотрен на заседании № 219 локального этического комитета ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 29 января 2018 г.
Заключение: участники исследования не будут подвергаться риску, так как исследовательская деятельность ограничена изучением существующих обезличенных данных, документов, записей.
Решение: одобрить проведение исследования, признать его соответствующим этическим нормам, принципам защиты прав и благополучия участников исследования.
Статистический анализ
Принципы расчета размера выборки. Размер выборки предварительно не рассчитывался.
Методы статистического анализа данных. Обработку полученных данных проводили с использованием стандартного пакета программ прикладного статистического анализа Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) v. 21 (IBM, США). Применяли общеупотребительные методы параметрической и непараметрической статистики. Значимость различий между группами оценивали с помощью χ2-критерия Пирсона, t-критерия Стьюдента для независимых выборок, U-критерия Вилкоксона–Манна–Уитни, коэффициентов корреляции r Пирсона, ρ Спирмена и τ Кендалла. При описании взаимоотношений качественных переменных оценивали отношение шансов и доверительный интервал с надежностью 0,95. Критический уровень значимости нулевой статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий или факторных влияний) принимали равным 0,05. При корреляционном анализе взаимосвязь между показателями считали слабой при значениях коэффициента корреляции 0,3 и менее, средней — при значениях более 0,3, но менее 0,6; сильной — при значениях 0,6 и более.
Результаты
Объекты (участники) исследования
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 280 ВИЧ-позитивных пациентов с сифилисом, состоявших на диспансерном учете в Санкт-Петербургском Центре СПИД и инфекционных заболеваний. В исследование было включено 257 мужчин (91,8%) и 23 женщины (8,2%). Возраст участников на момент включения в исследование варьировал от 19 лет до 71 года. Медиана возраста (Q2) составляла 34 года, 25% (Q1) пациентов были в возрасте до 28 лет, 75% (Q3) — до 41 года. Возрастные различия между пациентами женского и мужского пола оказались статистически незначимыми. Чаще всего сифилис диагностировали в возрасте от 21 до 40 лет (71,8% случаев), после 40 лет — у 26,1% участников исследования, до 21 года — у 2,1%.
Среди пациентов с коинфекцией 58,4% составляли лица, имевшие среднее общее и среднее профессиональное образование. Высшее образование получили 40,0% участников исследования. Уровень образования, полученного женщинами, оказался значимо ниже, чем у мужчин (z = 1747,5; р < 0,001).
75,2% участников работали на условиях полной или частичной занятости, 24,8% были безработными, учащимися, пенсионерами, инвалидами. Среди женщин доля неработающих составляла 62,1%, среди мужчин — 20,4% (χ2 = 24,121; р < 0,001).
82,2% участников исследования были одинокими (холостыми/незамужними, разведенными, овдовевшими), а 17,8% состояли в официальном или гражданском браке. Женщины значимо чаще позиционировали себя как «состоящие в браке» (χ2 = 10,429; р = 0,003). Среди участвовавших в исследовании мужчин 48,2% имели сексуальные контакты только с мужчинами, 19,5% — как с мужчинами, так и с женщинами и 32,3% вступали только в гетеросексуальные половые отношения. Таким образом, 67,7% мужчин, участвовавших в исследовании, имели половые контакты с представителями своего пола. МСМ были значимо моложе мужчин с гетеросексуальной ориентацией — медианный возраст составлял 32 и 37 лет соответственно (z = 4814,0; p < 0,001). 58,4% участников исследования (60,8% мужчин и 37,5% женщин) имели многочисленных половых партнеров, при этом практиковали только защищенные половые контакты лишь 4,9%, никогда не пользовались презервативами — 27,0%.
28,7% участников исследования регулярно употребляли спиртные напитки и 17,8% признавали факт злоупотребления алкоголем. Частота употребления алкоголя была обратно взаимосвязана с уровнем образования (p = 0,020). Доля лиц, имевших опыт наркопотребления, в исследуемой группе была сравнительно небольшой — 23,0%, причем активными потребителями наркотиков являлись лишь 3,1% пациентов. Женщины, участвовавшие в исследовании, значимо чаще имели опыт наркопотребления по сравнению с мужчинами — 65,6 против 17,7% соответственно (χ2 = 36,746; р < 0,001). Чаще наркотики употребляли пациенты с более низким образовательным уровнем (z = 3845,5; р < 0,001), не работавшие (χ2 = 21,106; р < 0,001). МСМ реже по сравнению с гетеросексуальными мужчинами имели опыт наркопотребления — 9,8 и 30% соответственно (χ2 = 15,719; р < 0,001).
У пациентов с сочетанием ВИЧ и сифилиса в 85,9% случаев имелись указания на наличие других сопутствующих заболеваний, которые могли способствовать более тяжелому течению сифилиса и влиять на результаты его лечения: 5,2% участников исследования страдали туберкулезом легких; 13,4% — гепатитом В; 28,2% — гепатитом С; у 6,7% имело место сочетание гепатитов В и С; у 3,4% пациентов были диагностированы злокачественные новообразования; у 19,3% — гематологические заболевания; у 9,8% — эндокринные и метаболические нарушения. В анамнезе у 34,1% участников исследования имелись указания на наличие неврологических и психических расстройств несифилитической этиологии, у 15,5% — неспецифическая патология органа зрения. Соматическая отягощенность была более выражена у женщин (z = 5523,5; р = 0,012), неработавших пациентов (z = 5196,0; p = 0,001), у имевших опыт наркопотребления (z = 9478,5; р < 0,001). Соматически оказались в большей степени отягощены пациенты с латентными формами сифилиса по сравнению с манифестными (z = 9546,0; р = 0,012); пациенты с реинфекциями по сравнению с теми, кто болел сифилисом в первый раз (z = 11149,0; р = 0,006); пациенты с нейросифилисом по сравнению с пациентами без поражения нервной системы (z = 9467,0; р < 0,001). Непереносимость антибиотиков пенициллинового ряда имела место у 7,0% участников исследования; цефтриаксона — у 1,1%; доксициклина — у 0,4%.
На момент выявления сифилиса у 71,2% участников исследования наблюдалась 4-я стадия ВИЧ-инфекции — стадия вторичных заболеваний (рис. 1). Среди МСМ доля находившихся на этой стадии составляла 66,5%.
Рис. 1. Стадии ВИЧ-инфекции у участников исследования к моменту диагностики сифилиса, %
Fig. 1. Stages of HIV infection in the study participants at the time of syphilis diagnosis, %
Среди пациентов, у которых был установлен путь заражения ВИЧ, 85,3% инфицировались половым путем и только 14,7% — парентеральным. Среди заразившихся половым путем источник инфицирования ВИЧ был известен только у 11,4%. У 88,2% участников исследования обнаружение ВИЧ-инфекции предшествовало диагностике сифилиса, в 9,9% случаев оба инфекционных заболевания были диагностированы одновременно, у 1,9% больных первоначально был выявлен сифилис и позднее — ВИЧ-инфекция. В тех случаях, когда заражение ВИЧ предшествовало заболеванию сифилисом, интервал между заражениями в среднем составлял три года.
АРВТ на момент выявления сифилиса получали 48,0% участников исследования, а среди тех, у кого была диагностирована 4-я стадия ВИЧ-инфекции, — 58,9%. Необходимо отметить, что пациентам с коинфекцией, нуждавшимся в АРВТ, но ранее не получавшим ее, в период лечения сифилиса противовирусную терапию не инициировали во избежание непредсказуемых проявлений синдрома иммунной реконституции. АРВТ ВИЧ-инфицированным назначали всегда после завершения противосифилитического лечения.
ВИЧ-ассоциированные заболевания кожи и слизистых оболочек были обнаружены у 75,3% пациентов с коинфекцией (табл. 1). Столь высокая распространенность вторичных заболеваний кожи отчетливо демонстрирует тот факт, что три четверти пациентов в исследуемой группе составляли больные с продвинутыми стадиями ВИЧ-инфекции, для которых закономерно более тяжелое течение сифилиса.
Таблица 1. Распространенность некоторых ВИЧ-ассоциированных дерматозов у пациентов исследуемой группы
Table 1. Prevalence of certain HIV-associated dermatoses in patients of the study group
Заболевание | Доля пациентов, % |
Рецидивирующая инфекция, вызванная вирусами герпеса 1 и 2 типов | 25,0 |
Инфекция, вызванная вирусом герпеса 3 типа (herpes zoster) | 11,0 |
Папилломавирусная инфекция (манифестная) | 21,3 |
Контагиозный моллюск | 2,0 |
Микозы, вызванные нитчатыми грибами | 16,7 |
Кандидоз кожи и слизистых оболочек | 49,7 |
Разноцветный лишай | 3,0 |
Себорейный дерматит | 27,0 |
Пиодермии | 7,7 |
Волосатая лейкоплакия | 4,0 |
Основные результаты исследования
В структуре клинических форм сифилиса, которые были выявлены у пациентов исследуемой группы, преобладали ранние и поздние специфические поражения нервной системы (37,2% случаев), вторичный сифилис (30,4%) и скрытые формы заболевания (29,3%) (рис. 2). Чаще всего — в 55,6% случаев — сифилис у участников исследования обнаруживали при плановом скрининге в Центре СПИД или в ходе обследования перед госпитализацией в лечебно-профилактическое учреждение (рис. 3).
Рис. 2. Клинические формы сифилиса у пациентов с коинфекцией ВИЧ, %
Fig. 2. Clinical forms of syphilis in patients with HIV coinfection, %
Рис. 3. Обстоятельства выявления сифилиса у участников исследования, %
Fig. 3. Circumstances of syphilis detection in the study subjects, %
Источник заражения сифилисом был выявлен лишь у 4,0% пациентов с коинфекцией. У 60,9% участников исследуемой группы продолжительность заболевания превышала 12 месяцев или не была точно установлена. У 29,0% больных сифилисом заболевание представляло собой доказанную реинфекцию.
Среди больных первичным и вторичным свежим сифилисом, у которых были обнаружены первичные сифиломы, в 57,9% случаев они были эрозивными, а в 42,1% — язвенными. Одиночные первичные сифиломы наблюдались у 36,8%, более одного первичного аффекта выявили у 63,2% пациентов.
У 78,9% участников исследования первичные сифиломы располагались на половых органах, у 15,8% — экстрагенитально и у 5,3% были биполярными. Экстрагенитальные первичные сифиломы локализовались на губах, твердом нёбе и в перианальной области. В 47,4% случаев первичные сифиломы были осложнены фимозом. У всех пациентов первичной сифиломе сопутствовал регионарный лимфаденит, у 5,3% был выявлен специфический лимфангит.
Среди участников исследования, которым был поставлен диагноз «вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек», клиническая картина в 12,9% случаев соответствовала вторичному свежему сифилису и в 87,1% — вторичному рецидивному. Кроме того, вторичные высыпания наблюдались у 44,8% больных ранним нейросифилисом. Частота встречаемости различных вторичных сифилидов у пациентов исследуемой группы отражена в табл. 2.
Таблица 2. Распространенность различных вариантов вторичных сифилидов у участников исследования
Table 2. Prevalence of various types of secondary syphilis in the study subjects
Разновидность вторичных сифилидов | Доля пациентов, % |
Розеолезный сифилид | 59,5 |
Папулезный сифилид гладкой кожи | 6,3 |
Папулезный сифилид ладоней и подошв | 42,9 |
Папулезный сифилид аногенитальной области | 27,8 |
Папулезный сифилид слизистой оболочки рта и губ | 20,6 |
Ангина сифилитическая | 17,5 |
Папуло-пустулезный сифилид распространенный | 2,4 |
Алопеция сифилитическая | 5,6 |
Распространенные папуло-пустулезные высыпания | 2,4 |
Среди пациентов с диагнозом «ранний нейросифилис» специфические высыпания на коже и слизистых оболочках были обнаружены в 47,1% случаев. Проявления соответствовали первичному сифилису в 4,9% случаев, вторичному свежему — в 14,6% и вторичному рецидивному — в 80,5% случаев. Ни у одного из 17 больных поздним нейросифилисом специфических высыпаний выявлено не было.
37,5% пациентов с диагнозом «нейросифилис» предъявляли различные субъективные жалобы, которые могли быть обусловлены специфическим поражением нервной системы и органа зрения (табл. 3). Необходимо, однако, отметить, что у 30,8% пациентов, предъявлявших жалобы, имелись сопутствующие неврологические и/или психические заболевания, наличие которых могло послужить причиной появления данных субъективных симптомов. Нами не было обнаружено статистически значимой взаимосвязи между наличием субъективных неврологических жалоб и изменениями цереброспинальной жидкости, подтверждающими наличие нейросифилиса.
Таблица 3. Субъективные неврологические жалобы у пациентов с нейросифилисом и без специфического поражения нервной системы
Table 3. Subjective neurological complaints in patients with neurosyphilis and without specific damage to the nervous system
Жалобы | Среди пациентов с нейросифилисом, % | Среди пациентов без нейросифилиса, % | Статистическая значимость различий |
Головная боль | 13,5 | 17,7 | р = 0,413 |
Снижение зрения | 13,5 | 5,1 | р = 0,014 |
Нарушение концентрации внимания | 12,5 | 13,6 | р = 0,859 |
Головокружение | 11,5 | 9,6 | р = 0,690 |
Снижение памяти | 10,6 | 10,1 | р = 0,521 |
Раздражительность, тревожность | 9,6 | 15,2 | р = 0,213 |
Нарушения сна | 6,7 | 15,7 | р = 0,028 |
Снижение слуха, шум в ушах | 3,8 | 2,5 | р = 0,453 |
Жалоб не предъявляли | 62,5 | 63,6 | р = 0,900 |
У 10,6% пациентов с нейросифилисом было отмечено наличие объективных симптомов поражения нервной системы и органа зрения (табл. 4). Однако у 63,6% из них в анамнезе имелись указания на перенесенные неспецифические заболевания нервной системы (миелоэнцефалит, острое нарушение мозгового кровообращения и др.), наличие которых оказалось значимо взаимосвязано с выявленными неврологическими симптомами (χ2 = 29,648; р = 0,013).
Таблица 4. Объективная клиническая симптоматика поражения нервной системы и органа зрения у пациентов с нейро- и офтальмосифилисом
Table 4. Objective clinical symptoms of nervous system and eye damage in patients with neuro- and ophthalmic syphilis
Симптомы | Среди пациентов с нейросифилисом, % | Среди пациентов без нейросифилиса, % | Статистическая значимость различий |
Анизорефлексия, гипо- и арефлексия, наличие патологических рефлексов | 5,8 | 8,1 | р = 0,642 |
Неустойчивость при ходьбе | 6,7 | 3,0 | р = 0,145 |
Специфический увеит | 5,8 | — | — |
Парезы и параличи | 2,9 | 1,0 | р = 0,310 |
Анизокория | 2,9 | 0,5 | р = 0,120 |
Нарушение функции мимических мышц | 1,9 | 1,0 | р = 0,610 |
Неврит зрительных нервов | 2,9 | — | — |
Эпилептиформные припадки | 1,0 | 0,5 | р = 0,610 |
Объективные симптомы отсутствовали | 89,4 | 90,9 | р = 0,683 |
Поздний нейросифилис у 70,6% больных протекал бессимптомно, спинная сухотка и прогрессирующий паралич составляли по 5,9% случаев, а у 17,6% больных наблюдались неврологические симптомы, но форма нейросифилиса не была уточнена.
В целом у 61,5% ВИЧ-инфицированных нейросифилис протекал без субъективных и объективных клинических симптомов, что подтверждает значимость выполнения исследования цереброспинальной жидкости всем пациентам с коинфекцией.
Нежелательные явления
Ввиду неинтервенционного дизайна исследование не сопровождалось какими-либо нежелательными явлениями.
Обсуждение
Резюме основного результата исследования
В группе пациентов с коинфекцией большинство составляли мужчины с 4-й стадией ВИЧ-инфекции (66,5%), с промискуитетным поведением (60,8%), имевшие половые контакты с мужчинами (67,7%). Особенности клинической картины сифилиса у пациентов с ВИЧ-инфекцией обусловлены в первую очередь имеющимся иммунодефицитом — большая распространенность специфических поражений нервной системы (34,2%), высокая частота развития осложнений (фимоз — у 47,4% мужчин). С другой стороны, отличия в клинической картине сифилиса связаны с поведенческими особенностями пациентов, в частности со склонностью к промискуитету и рискованным сексуальным практикам: это объясняет частое появление экстрагенитальных (21,1%), множественных первичных (63,2%) сифилом и высокую частоту реинфекций (29,0%).
Обсуждение основного результата исследования
Группа пациентов с коинфекцией характеризовалась значительным преобладанием лиц мужского пола (91,8%), молодого возраста (Q2 = 34 года), а также мужчин, имевших половые контакты с мужчинами (67,7%). Доля мужчин среди больных с коинфекцией оказалась существенно выше таковой в группе ВИЧ-инфицированных пациентов, не болеющих сифилисом. Согласно данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, среди всех живущих с ВИЧ россиян мужчины составляют 62,3%, среди впервые выявленных в 2023 г. их было 60,5% [1]. Гендерное соотношение с незначительным преобладанием мужчин сохраняется в субпопуляции ВИЧ-инфицированных в РФ уже длительное время: например, в 2013 г. доля мужчин среди лиц, живущих с ВИЧ, составляла 62,8% [9]. Значительное превалирование мужчин в наблюдавшейся нами группе пациентов с коинфекцией (91,8%) согласуется с данными зарубежных исследований, авторы которых также обратили внимание на указанную диспропорцию. Так, F. Sarigül и соавт. и D. De Francesco и соавт. обнаружили, что доля мужчин среди пациентов с коинфекцией составляет 89,3–90,0% [10, 11].
Вероятно, такое различие между группами пациентов с коинфекцией и моноинфекцией ВИЧ может быть объяснено особенностями путей заражения. Заражение сифилисом происходит почти исключительно половым путем, поэтому в группе пациентов с коинфекцией преобладают мужчины с рискованным сексуальным поведением. В группе лиц, инфицированных только ВИЧ, в РФ по-прежнему существенна доля заразившихся парентеральным путем. Среди всех инфицированных ВИЧ россиян с известной причиной заражения, выявленных в 1987–2023 гг., 53,7% были заражены при употреблении наркотиков [1] и при этом не обязательно отличались рискованным сексуальным поведением.
По нашим данным, пациенты с коинфекцией в среднем были существенно моложе тех, у кого выявлена только ВИЧ-инфекция. У участников нашего исследования сифилис чаще диагностировали в возрасте до 40 лет (73,9% случаев), в то время как по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом в 2023 г. в России лишь 46,9% вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции пришлось на этот возраст [1]. Очевидно, что пациенты с коинфекцией отличаются рискованным сексуальным поведением и заражаются сифилисом и ВИЧ половым путем в период максимальной сексуальной активности в возрасте до 40 лет.
67,7% мужчин, участвовавших в нашем исследовании, вступали в гомосексуальные половые контакты. МСМ, таким образом, составили основную часть группы пациентов с коинфекцией. Это согласуется с данными зарубежных источников, согласно которым МСМ являются основной группой риска заражения сифилисом, составляя 86–90% всех вновь выявленных случаев заболевания [12–14]. Также МСМ выступают классической ядерной группой инфицирования ВИЧ. За период с 2013 по 2023 г. в России доля заразившихся ВИЧ при гомосексуальном контакте возросла с 1,0 до 5,6% [1, 9]. При исследовании образцов крови в 2023 г. самую высокую частоту выявления ВИЧ-инфекции регистрировали именно среди МСМ — 20 806,7 положительных на 100 тыс. протестированных образцов. Таким образом, инфицированным ВИЧ оказался каждый пятый среди обследованных МСМ — в этой группе ВИЧ-инфекция встречалась в 123,8 раза чаще, чем среднем в стране (168,0 : 100 000). В других группах риска доля ВИЧ-положительных образцов была значительно ниже: 4622,2 случая ВИЧ-инфекции на 100 тыс. протестированных образцов — среди лиц, контактных по ВИЧ-инфекции; 1252,1 : 100 000 — среди находящихся в местах лишения свободы; 928,6 : 100 000 — среди потребителей инъекционных наркотиков; 898,5 : 100 000 — среди лиц, занимающихся оказанием коммерческих сексуальных услуг; 428,1 : 100 000 — среди лиц с подозрением или наличием подтвержденной инфекции, передаваемой половым путем [1].
58,4% наших пациентов с сифилисом и ВИЧ-инфекцией имели многочисленных половых партнеров, при этом всегда практиковали защищенные сексуальные контакты лишь 4,9%. Опыт употребления наркотиков в течение жизни имели 23,0% участников исследования и лишь 3,1% являлись действующими наркопотребителями. Этот факт наряду с большой долей лиц, характеризующихся рискованным сексуальным поведением, еще раз подчеркивает роль полового, гомосексуального пути заражения ВИЧ и сифилисом в исследуемой группе. 88,2% участников исследования уже были заражены ВИЧ, когда у них был обнаружен сифилис, т.е., будучи ВИЧ-инфицированными, они не снизили уровень своего поведенческого риска. Об этом же свидетельствуют выявленная склонность к промискуитету и низкая приверженность к использованию презервативов.
В исследуемой группе преобладали пациенты с тяжелыми формами ВИЧ-инфекции, осложненными коморбидными заболеваниями и оппортунистическими инфекциями: у 71,2% участников исследования была диагностирована 4-я стадия ВИЧ-инфекции, у 75,3% выявлены ВИЧ-ассоциированные дерматозы. Среди последних были наиболее распространены кандидоз кожи и слизистых оболочек (49,7% пациентов), себорейный дерматит (27,0%) и рецидивирующая герпесвирусная инфекция (25,0%). Зарубежные исследователи сообщают о существенно меньшей доле больных на стадии СПИДа среди пациентов с коинфекцией — от 15,0 до 52,9% [11, 15–17]. Безусловно, тот факт, что бóльшая часть наших пациентов уже находилась на стадии вторичных заболеваний, не мог не отразиться на течении, диагностике сифилиса и результатах его лечения. Распространенность ВИЧ-ассоциированных дерматозов в исследуемой группе создает определенные трудности при дифференциальной диагностике неспецифических высыпаний с симптомами сифилиса и может способствовать запоздалой диагностике последнего. Так, N.K. Pradipta и соавт. описали случай кольцевидного сифилида у ВИЧ-инфицированного больного вторичным свежим сифилисом. Картина кольцевидного сифилида имитировала проявления ряда хронических дерматозов, и заболевание длительно оставалось нераспознанным [18].
Сифилитические высыпания на коже и слизистых оболочках отсутствовали у 54,6% участников нашего исследования. Аналогичные сведения приводят R. Lang и соавт., сообщившие о том, что у ВИЧ-позитивных пациентов из когорты, находившейся под наблюдением в г. Альберта (Канада), сифилис протекал латентно в 50,8% случаев и был диагностирован только при рутинном скрининговом обследовании [19].
Наши данные о частоте реинфекций в исследуемой группе согласуются с сообщением R. Lang и соавт., которые также выявили случаи повторных инфицирований сифилисом у 28,0% ВИЧ-позитивных участников когортного исследования в Канаде [19]. E. Petrosky и соавт. представили сведения о повторных заражениях сифилисом 39,8% ВИЧ-инфицированных МСМ в северо-западных штатах США в 2008–2013 гг. [20].
К особенностям проявлений первичного периода сифилиса у пациентов с коинфекцией можно отнести большую распространенность множественных первичных сифилом (63,2%), экстрагенитальных и биполярных первичных сифилом (21,1%) и первичных сифилом, осложненных фимозом (у 47,4% мужчин). Аналогичные данные — 67% множественных первичных сифилом у пациентов с ВИЧ-инфекцией (против 32% у ВИЧ-негативных) — приводят А.М. Rompalo и соавт. [7]. С.Р. Утц и соавт., проанализировавшие клинические особенности ранних форм сифилиса на примере крупной выборки ВИЧ-негативных больных, сообщили о выявлении 46,6% множественных шанкров, лишь 2,4% — экстрагенитальных и 14,3% — осложненных фимозом [21].
Наиболее частыми проявлениями вторичного сифилиса у наших пациентов были розеолезный сифилид (59,5%), папулезный сифилид ладоней и подошв (42,9%), а также папулезные высыпания на гениталиях и в перианальной области (27,8%). А.М. Rompalo и соавт. обнаруживали сифилитическую розеолу значительно реже — у 36% ВИЧ-инфицированных больных сифилисом, а папулы ладоней и подошв и гениталий — напротив, чаще (у 73 и 33% пациентов соответственно) [7]. По данным M. Arando и соавт. наиболее часто у ВИЧ-инфицированных пациентов встречались папулезные высыпания на половых органах (69,2%), ладонях и подошвах (41,5%), сифилитическая ангина (23,1%) [22]. Среди участников нашего исследования редко встречалась сифилитическая алопеция — лишь в 5,6% случаев (при этом у 85,7% пациентов наблюдалась мелкоочаговая и у 14,3% — диффузная алопеция волосистой части головы). Этот результат противоречит сообщению И.А. Орловой, наблюдавшей диффузную и мелкоочаговую алопецию у 37,5% ВИЧ-инфицированных больных сифилисом, причем диффузную алопецию она обнаруживала чаще, чем мелкоочаговую, — у 30,1 и 7,4% пациентов с коинфекцией соответственно [23].
Проявления злокачественно протекающего вторичного сифилиса с распространенными папуло-пустулезными высыпаниями были отмечены нами в 2,4% случаев. У этих пациентов на момент выявления сифилиса были диагностированы стадии 4Б и 4В ВИЧ-инфекции, но при этом АРВТ они не получали. В исследованиях, проведенных в 1990-е годы, авторы часто отмечали высокую частоту злокачественного сифилиса у пациентов с ВИЧ-инфекцией [6, 24]. Так, H. Schofer и соавт. в 1996 г. сообщили о 7,3% случаев злокачественного сифилиса среди 11 368 ВИЧ-инфицированных [6]. Е.Б. Манашева в 2023 г. обнаружила диссеминированные папуло-пустулезные сифилиды у 7,7% больных с коинфекцией, во всех случаях у них наблюдались стадии 4Б и 4В ВИЧ-инфекции, прогрессировавшие без АРВТ [25]. Однако по информации других исследователей доля пациентов со злокачественно протекающим сифилисом среди ВИЧ-инфицированных не превышает таковую в общей популяции: 0,6% по данным И.А. Орловой [23]. При этом С.Р. Утц и соавт. обнаружили папуло-пустулезные сифилиды у 1,5% ВИЧ-негативных больных сифилисом [21], О.Г. Калугина — у 1,4% [26]. Очевидно, что доля пациентов со злокачественно протекающим сифилисом в исследуемой группе напрямую зависит от количества в ней пациентов со стадиями 4Б и 4В ВИЧ-инфекции и от процента их охвата АРВТ.
На высокий риск развития манифестных специфических поражений нервной системы у ВИЧ-инфицированных пациентов указывают многие исследователи [6, 27, 28]. Считается, что риск возникновения нейросифилиса на фоне ВИЧ-инфекции в 3–6 раз выше, чем у ВИЧ-негативных пациентов. Например, по данным M.M. Taylor и соавт. частота нейросифилиса среди лиц, инфицированных ВИЧ, составляла 2,1% по сравнению с 0,6% среди лиц без ВИЧ-инфекции [29]. Среди участников нашего исследования специфические поражения нервной системы были подтверждены результатами исследования цереброспинальной жидкости в 37,2% случаев. У 61,5% пациентов нейросифилис протекал в форме бессимптомного менингита. Аналогичную частоту скрытого сифилитического менингита у ВИЧ-инфицированных пациентов (в 57,8% случаев) обнаружили И.А. Орлова и соавт. [23].
Клинические симптомы поражения нервной системы, наблюдающиеся у пациентов с коинфекцией, не патогномоничны и могут быть обусловлены влиянием как бледной трепонемы, так и ВИЧ. Известно, что на 4-й стадии ВИЧ-инфекции поражение нервной системы наблюдают в 30–40% случаев при отсутствии сифилиса. В нашем исследовании объективные признаки поражения нервной системы у пациентов с нейросифилисом были обнаружены в 10,6% случаев. При этом у 63,6% больных с манифестным поражением нервной системы имелись сопутствующие неврологические и/ или психические заболевания, наличие которых оказалось значимо взаимосвязано с выявленными неврологическими симптомами (χ2 = 29,648; р = 0,013). С другой стороны, нами не было выявлено статистически значимой взаимосвязи между наличием объективной неврологической симптоматики и изменениями цереброспинальной жидкости, подтверждающими наличие нейросифилиса. Ввиду отсутствия при нейросифилисе патогномоничных симптомов не представлялось возможным дифференцировать имевшиеся клинические признаки как обусловленные сифилисом или неспецифическими заболеваниями. Исключение составляли, по-видимому, только случаи увеита и неврита зрительного нерва, неспецифическая этиология которых представляется маловероятной.
У 54,6% участников нашего исследования отсутствовали сифилитические высыпания на коже и слизистых оболочках. Существенная доля среди пациентов с коинфекцией больных латентным сифилисом, который может быть выявлен только при лабораторном обследовании, подчеркивает особую значимость регулярного скрининга на сифилис ВИЧ-инфицированных пациентов. Принимая во внимание рискованное сексуальное поведение представителей исследуемой группы и высокую частоту повторных заражений сифилисом (29,0%), вероятно, было бы целесообразно увеличить частоту скрининговых обследований с нынешнего одного до двух раз в год. Подчеркнем, что в ходе рутинного скрининга сифилис был диагностирован у 55,6% участников исследования.
У ВИЧ-инфицированных пациентов в 60,9% случаев заболевание выявляли спустя 12 месяцев и более после заражения либо продолжительность сифилиса не удавалось уточнить. Отсроченное начало лечения у пациентов с коинфекцией, несомненно, ухудшает прогноз и создает предпосылки для развития серологической резистентности.
Источник заражения сифилисом пациентов с коинфекцией был установлен лишь в 4% случаев, что можно объяснить промискуитетным поведением многих участников исследования, когда не удается привлечь к обследованию многочисленных случайных половых партнеров, а также трудностью установления доверительного контакта дерматовенеролога с представителями высокостигматизированной субпопуляции ВИЧ-инфицированных МСМ. Трудность проведения должного эпидемиологического расследования в данной группе повышенного поведенческого риска заражения сифилисом способствует тому, что ВИЧ-инфицированные МСМ в настоящее время являются ядерной группой по заболеваемости ВИЧ и сифилисом и распространению этих инфекций половым путем в общую популяцию.
Показателем рискованного сексуального поведения представителей исследуемой группы выступает выявленная нами высокая частота реинфекций сифилиса. Особенностью сифилиса у МСМ по сравнению с гетеросексуальными мужчинами оказалось также то, что у них чаще регистрировали манифестные формы сифилиса (55,9 против 39,5% соответственно; χ2 = 5,886; р = 0,021), а также ранние формы сифилиса (87,1 против 69,7%; χ2 = 10,423; р = 0,002).
Ограничения исследования
Проведенное исследование имело ограничения, которые могли повлиять на сделанные нами выводы. Во-первых, оно проведено на базе единственного Центра СПИДа, хотя и одного из самых крупных в России. Нами проанализированы все доступные истории болезни пациентов с коинфекцией за довольно длительный период времени, однако размер выборки все же был ограничен 280 участниками, что, безусловно, не претендует на формат широкомасштабного клинико-эпидемиологического исследования. Во-вторых, оценку особенностей сифилиса у пациентов с коинфекцией, распространенности различных вариантов сифилидов мы проводили на основании данных амбулаторных карт, что вносит в исследование элемент субъективности, так как отсутствует гарантия точности и полноты описания клинической картины лечащими врачами. В связи с этим полученные нами результаты, безусловно, не дают возможности экстраполировать их в масштабах страны и делать глобальные обобщения. Они имеют значение в качестве ориентира для последующих более массовых и географически расширенных исследований.
Заключение
Особенностям современной клинической картины сифилиса при коинфекции ВИЧ в отечественной литературе посвящено ограниченное количество публикаций. Во многом представления венерологов об отличительных признаках сифилиса, протекающего на фоне ВИЧ-инфекции, остаются на уровне исследований раннего периода изучения ВИЧ, до внедрения в практику АРВТ.
Наши результаты показывают, что у пациентов с ВИЧ-инфекцией клиническая картина сифилиса отличается от «классической» распространенностью различных вариантов сифилидов и частотой развития осложнений. Эти отличия обусловлены как иммунодефицитом, так и поведенческими особенностями пациентов, в частности склонностью к промискуитету и рискованным сексуальным практикам, что объясняет частое появление экстрагенитальных, множественных первичных сифилом, высокую частоту реинфекций (29,0%).
У 54,6% ВИЧ-инфицированных пациентов сифилис протекал без высыпаний на коже и слизистых оболочках, что затрудняло диагностику и повышало значимость регулярного серологического скрининга. При рутинном скрининге сифилис был выявлен у 55,6% пациентов с коинфекцией.
Наиболее частой клинической формой заболевания у ВИЧ-инфицированных являлся нейросифилис (37,2% случаев), у 61,5% пациентов протекавший в форме латентного менингита. Высокая распространенность и бессимптомное течение специфических поражений нервной системы у ВИЧ-инфицированных диктуют необходимость выполнения исследования цереброспинальной жидкости всем пациентам с коинфекцией.
У 60,9% участников исследования продолжительность сифилиса на момент постановки диагноза превышала 12 месяцев или не была точно установлена. Большая продолжительность заболевания и отсроченное начало лечения у пациентов с коинфекцией ухудшают прогноз и создают предпосылки для развития серологической резистентности.
МСМ в группе пациентов с коинфекцией составляли 55,9%, отличались высоким уровнем поведенческого риска полового заражения сифилисом (промискуитетное поведение, низкая частота использования презервативов). Высокая степень стигматизации этих мужчин, обусловленная как сексуальными предпочтениями, так и наличием ВИЧ-инфекции, создает трудности при установлении доверительного контакта с ними, необходимого для проведения должного эпидемиологического расследования при выявлении сифилиса. На это указывает редкость установления источников заражения сифилисом (4,0% случаев). ВИЧ-инфицированные МСМ являются, с одной стороны, социально уязвимой субпопуляцией, а с другой — «ядерной» группой в отношении распространения сифилиса и ВИЧ-инфекции. В связи с этим необходимы разработка, апробация и внедрение в практику адресных превентивных программ, направленных на снижение рискованного сексуального поведения и стигматизации представителей данной группы, а также расширение возможностей их обследования на инфекции, передаваемые половым путем.
About the authors
Tatiana V. Krasnoselskikh
First Pavlov State Medical University of Saint Petersburg
Author for correspondence.
Email: tatiana.krasnoselskikh@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-2278-5393
SPIN-code: 1214-8876
MD, Dr. Sci. (Med.), Associate Professor
Russian Federation, Saint PetersburgOleg V. Shved
First Pavlov State Medical University of Saint Petersburg
Email: oleg.210498@gmail.com
ORCID iD: 0009-0003-9925-2055
SPIN-code: 3809-6498
MD
Russian Federation, Saint PetersburgElizaveta B. Manasheva
First Pavlov State Medical University of Saint Petersburg
Email: volf8989@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3777-8591
SPIN-code: 2071-9441
MD, Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, Saint PetersburgMalvina I. Daniliuk
First Pavlov State Medical University of Saint Petersburg
Email: malvinadaniliuk@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1517-2158
SPIN-code: 2464-2734
MD
Russian Federation, Saint PetersburgMaria A. Chirskaya
Saint Petersburg Center for Control of AIDS and Infectious Diseases
Email: mariya-gezej@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-9659-8649
SPIN-code: 3471-7935
MD, Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, Saint PetersburgTatiana N. Vinogradova
Saint Petersburg Center for Control of AIDS and Infectious Diseases
Email: vino75@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-1995-4755
SPIN-code: 5330-6400
MD, Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, Saint PetersburgEvgeny V. Sokolovskiy
First Pavlov State Medical University of Saint Petersburg
Email: s40@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7610-6061
SPIN-code: 6807-7137
MD, Dr. Sci. (Med.), Professor
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Покровский В.В., Ладная Н.Н., Соколова Е.В. ВИЧ-инфекция. Информационный бюллетень № 49. Референс-центр по мониторингу за ВИЧ и ВИЧ-ассоциированными инфекциями. М., 2024. 79 с. URL: http://www.hivrussia.info/wp-content/uploads/2024/11/hiv-infection-info-bulletin-49.pdf
- Рахматулина М.Р., Мелехина Л.Е., Новоселова Е.Ю. Ретроспективный анализ заболеваемости сифилисом в Российской Федерации в 2009–2023 гг. и тенденции динамического развития эпидемиологического процесса. Вестник дерматологии и венерологии. 2025;101(1):7–27. [Rakhmatulina MR, Melekhina LЕ, Novoselova EY. A retrospective analysis of the increase in syphilis incidence in the Russian Federation in 2009–2023 and trends in dynamic development of epidemiological processes. Vestnik Dermatologii i Venerologii. 2025;101(1):7–27. (In Russ.)] doi: 10.25208/vdv16851
- Ghanem KG, Moore RD, Rompalo AM, Erbelding EJ, Zenilman JM, Gebo KA. Neurosyphilis in a clinical cohort of HIV-1-infected patients. AIDS, 2008;22(10):1145–1151. doi: 10.1097/QAD.0b013e32830184df
- Виноградова Т.Н., Бембеева Н.А., Пирогова А.В., Пискарев И.Г. ВИЧ-инфекция в Санкт-Петербурге по состоянию на 01.01.2025: Информационный бюллетень. URL: https:// www.hiv-spb.ru/manager/Информационный%20бюллетень%202024-А.pdf
- Пантелеева О.В., Бембеева Н.А., Волкова Т.М., Говоруха Е.М., Кусниязова И.Е., Васильева В.А., и др. ВИЧ-инфекция в Санкт-Петербурге по состоянию на 01.01.2020: Информационный бюллетень. URL: www.hiv-spb.ru/информационный%20бюллетень%20%202019%20года.pdf
- Schöfer H, Imhof M, Thoma-Greber E, Brockmeyer NH, Hartmann M, Gerken G, et al. Active syphilis in HIV infection: a multicentre retrospective survey. The German AIDS Study Group (GASG). Genitourin Med. 1996;72(3):176–181. doi: 10.1136/sti.72.3.176
- Rompalo AM, Joesoef MR, O’Donnell JA, Augenbraun M, Brady W, Radolf JD, et al. Clinical manifestations of early syphilis by HIV status and gender: results of the syphilis and HIV study. Sex Transm Dis. 2001;28(3):158–165. doi: 10.1097/00007435-200103000-00007
- Tucker JD, Shah S, Jarell AD, Tsai KY, Zembowicz A, Kroshinsky D. Lues maligna in early HIV infection case report and review of the literature. Sex Transm Dis. 2009;36(8):512–514. doi: 10.1097/OLQ.0b013e3181a2a946
- Покровский В.В., Ладная Н.Н., Соколова Е.В., Тушина О.И., Буравцова Е.В. ВИЧ-инфекция: Информационный бюллетень № 39. Референс-центр по мониторингу за ВИЧ и ВИЧ-ассоциированными инфекциями. М., 2014. 52 с. URL: http://www.hivrussia.info/wp-content/uploads/2019/02/Byulleten-39-VICH-infektsiya-2013-g..pdf
- De Francesco D, Winston A, Underwood J, Cresswell FV, Anderson J, Post FA, et al. Cognitive function, depressive symptoms and syphilis in HIV-positive and HIV-negative individuals. Int J STD AIDS. 2019;30(5):440–446. doi: 10.1177/0956462418817612
- Sarigül F, Sayan M, İnan D, Deveci A, Ceran N, Çelen MK, et al. Current status of HIV/AIDS-syphilis co-infections: a retrospective multicentre study. Cent Eur J Public Health. 2019;27(3):223–228. doi: 10.21101/cejph.a5467
- David JF, Lima VD, Zhu J, Brauer F. A co-interaction model of HIV and syphilis infection among gay, bisexual and other men who have sex with men. Infect Dis Model. 2020;5:855–870. doi: 10.1016/j.idm.2020.10.008
- Shilaih M, Marzel A, Braun DL, Scherrer AU, Kovari H, Young J, et al. Factors associated with syphilis incidence in the HIV-infected in the era of highly active antiretrovirals. Medicine (Baltimore). 2017;96(2):e5849. doi: 10.1097/MD.0000000000005849
- Salado-Rasmussen K, Cowan S, Gerstoft J, Larsen HK, Hoffmann S, Knudsen TB, et al. Molecular typing of Treponema pallidum in Denmark: a nationwide study of syphilis. Acta Derm Venereol. 2016;96(2):202–206. doi: 10.2340/00015555-2190
- Sogkas G, Ernst D, Atschekzei F, Jablonka A, Schmidt RE, Behrens GMN, et al. Consider syphilis in case of lymphopenia in HIV-infected men who have sex with men (MSM): a single-center, retrospective study. Infect Dis Ther. 2018;7(4):485–494. doi: 10.1007/s40121-018-0219-9
- Ho EL, Maxwell CL, Dunaway SB, Sahi SK, Tantalo LC, Lukehart SA, et al. Neurosyphilis increases human immunodeficiency virus (HIV)-associated central nervous system inflammation but does not explain cognitive impairment in hiv-infected individuals with syphilis. Clin Infect Dis. 2017;65(6):943–948. doi: 10.1093/cid/cix473
- Wang YJ, Chi CY, Chou CH, Ho CM, Lin PC, Liao CH, et al. Syphilis and neurosyphilis in human immunodeficiency virus-infected patients: a retrospective study at a teaching hospital in Taiwan. J Microbiol Immunol Infect. 2012;45(5):337–342. doi: 10.1016/j.jmii.2011.12.011
- Pradipta NK, Susetiati DA, Nurmastuti H, Danarti R, Pudjiati SR. Annular secondary syphilis with HIV coinfection that resembles other dermatoses. Dermatol Online J. 2024;30(4). doi: 10.5070/D330464109
- Lang R, Read R, Krentz HB, Peng M, Ramazani S, Vu Q, et al. A retrospective study of the clinical features of new syphilis infections in an HIV-positive cohort in Alberta, Canada. BMJ Open. 2018;8(7):e021544. doi: 10.1136/bmjopen-2018-021544
- Petrosky E, Neblett Fanfair R, Toevs K, DeSilva M, Hedberg K, Braxton J, et al. Early syphilis among men who have sex with men in the US Pacific Northwest, 2008–2013: clinical management and implications for prevention. AIDS Patient Care and STDs. 2016;30(3):134–140. doi: 10.1089/apc.2015.0306
- Утц С.Р., Завьялов А.И., Слесаренко Н.А, Бакулев А.Л. О патоморфозе ранних форм сифилиса в настоящее время (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал. 2012;8(2):660–663. [Utz SR, Zavyalov AI, Slesarenko NA, Bakulev AL. Pathomorphism in early forms of syphilis today (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012;8(2):660–663. (In Russ.)]
- Arando M, Fernandez-Naval C, Mota-Foix M, Martinez D, Armengol P, Barberá MJ, et al. Early syphilis: risk factors and clinical manifestations focusing on HIV-positive patients. BMC Infect Dis. 2019;19(1):727. doi: 10.1186/s12879-019-4269-8
- Орлова И.А. Клинические и иммунологические особенности сифилиса при сочетании с ВИЧ-инфекцией: дис. … канд. мед. наук. СПб.: ВМедА; 2018. 125 с. [Orlova IA. Klinicheskie i immunologicheskie osobennosti sifilisa pri sochetanii s VICh-infekciej: dis. … kand. med. nauk. Saint Petersburg: VMedA; 2018. 125 s. (In Russ.)]
- Körber A, Dissemond J, Lehnen M, Franckson T, Grabbe S, Esser S. Syphilis with HIV coinfection. J Deutsch Dermatol Ges. 2004;2(10):833–840. doi: 10.1046/j.1439-0353.2004.04071.x
- Манашева Е.Б. Нейросифилис у ВИЧ-инфицированных пациентов: клинико-эпидемиологические характеристики и особенности диагностики: дис. … канд. мед. наук. СПб.: ВМедА, 2023. 153 с. [Manasheva EB. Nejrosifilis u VICh-inficirovannyh pacientov: kliniko-epidemiologicheskie harakteristiki i osobennosti diagnostiki: dis. … kand. med. nauk. Saint Petersburg: VMedA; 2023. 153 s. (In Russ.)]
- Калугина О.Г. Особенности клинической картины сифилиса на современном этапе: анализ симптомов: дис. … канд. мед. наук. СПб.: ВМедА, 2004. 104 с. [Kalugina OG. Osobennosti klinicheskoj kartiny sifilisa na sovremennom etape: analiz simptomov: dis. … kand. med. nauk. Saint Petersburg: VMedA; 2004. 104 s. (In Russ.)]
- Lu Y, Ke W, Yang L, Wang Z, Lv P, Gu J, et al. Clinical prediction and diagnosis of neurosyphilis in HIV-negative patients: a case-control study. BMC Infect Dis. 2019;19(1):1017. doi: 10.1186/s12879-019-4582-2
- Ceccarelli G, Borrazzo C, Lazzaro A, Innocenti GP, Celani L, Cavallari EN, et al. Diagnostic issues of asymptomatic neurosyphilis in HIV-positive patients: a retrospective study. Brain Sci. 2019;9(10):278. doi: 10.3390/brainsci9100278
- Taylor MM, Aynalem G, Olea LM, He P, Smith LV, Kerndt PR. A consequence of the syphilis epidemic among men who have sex with men (MSM): neurosyphilis in Los Angeles, 2001–2004. Sex Transm Dis. 2008;35(5):430–434. doi: 10.1097/OLQ.0b013e3181644b5e
Supplementary files