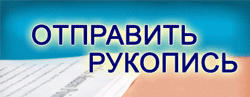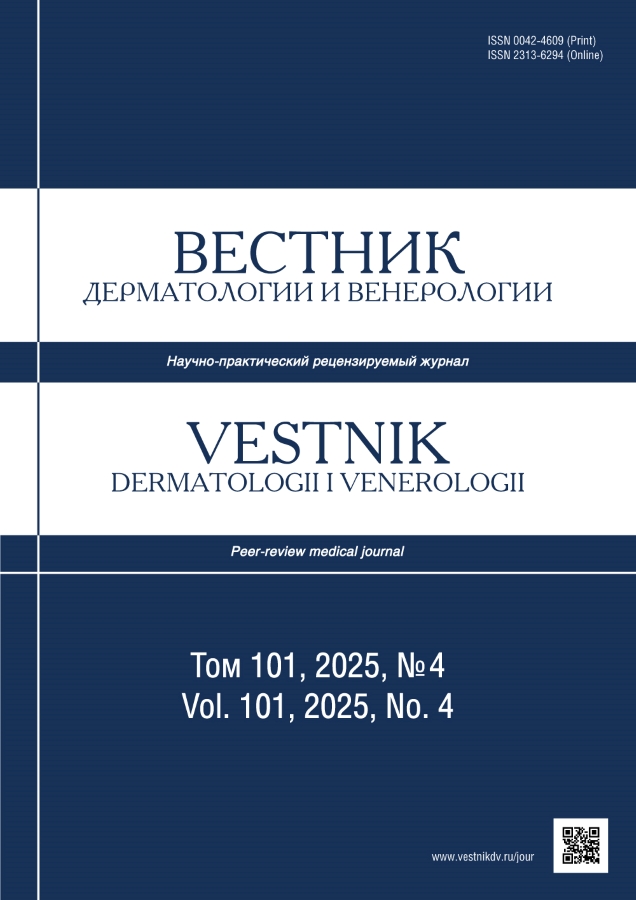Роль доменов белка десмоглеина-3 в патогенезе пузырчатки
- Авторы: Карамова А.Э.1, Знаменская Л.Ф.1, Гирько Е.В.1, Чикин В.В.1, Куклина Е.С.1
-
Учреждения:
- Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии
- Выпуск: Том 101, № 4 (2025)
- Страницы: 10-16
- Раздел: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
- Дата подачи: 05.05.2025
- Дата принятия к публикации: 06.08.2025
- Дата публикации: 20.08.2025
- URL: https://vestnikdv.ru/jour/article/view/16899
- DOI: https://doi.org/10.25208/vdv16899
- EDN: https://elibrary.ru/gxlbys
- ID: 16899
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Пузырчатка — это группа аутоиммунных буллезных дерматозов, поражающих кожу и/или слизистые оболочки, с потенциальным летальным исходом. Наиболее частой клинической формой является вульгарная пузырчатка, которая характеризуется циркулирующими в крови и фиксированными в эпидермисе IgG, направленными против десмоглеина-3 (Dsg3) при поражении слизистых оболочек и десмоглеина-1 (Dsg1) при поражении кожи. Внеклеточная часть Dsg3 состоит из пяти доменов (EC1–EC5), которые обеспечивают крепкую адгезию прилегающих друг к другу молекул соседних клеток. Описана важная роль Dsg3 и его отдельных внеклеточных доменов, прежде всего EC1 и EC2, в инициации аутоиммунного процесса и формировании клинического фенотипа заболевания. Вариабельность патогенности антител в зависимости от их доменной специфичности может быть использована в качестве маркера оценки прогноза заболевания, а также открывает новые возможности для разработки таргетных терапевтических стратегий.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Пузырчатка (пемфигус) — группа аутоиммунных буллезных заболеваний, поражающих кожу и/или слизистые оболочки [1]. Заболеваемость пузырчаткой в странах Европы и Северной Америки составляет в среднем от 0,1 до 0,2 случая на 100 тыс. населения [2]. В Российской Федерации, согласно данным Федерального статистического наблюдения, в 2014 г. заболеваемость пузырчаткой составила 1,9 случая на 100 тыс. взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), а распространенность — 4,8 случая на 100 тыс. взрослого населения [3]. Патофизиология пузырчатки в настоящее время рассматривается как процесс образования патогенных аутоантител (обычно класса IgG, реже IgA), направленных против различных белков десмосом кератиноцитов — десмоглеинов, десмоколлинов, плакинов. Соединение аутоантител с компонентами десмосом нарушает внутриэпидермальную адгезию, приводит к акантолизу и образованию пузырей на коже и/или слизистых оболочках, причем тяжесть заболевания тесно коррелирует с уровнем аутоантител в сыворотке крови [4].
Эпидемиология и клиническая картина
Наиболее частая клиническая форма — вульгарная пузырчатка (ВП), ее распространенность составляет от 0,38 (в Болгарии) до 30,0 случая (в Иране) на 100 тыс. человек. Чаще всего заболевание начинается в возрасте от 36,5 до 71,0 года, а коэффициент соотношения женщин и мужчин составляет от 0,46 до 4,40 [5]. Развитие ВП обусловлено множеством факторов, одним из которых является генетическая предрасположенность. В литературе описано наличие связи между аллелями гена HLA II (DR4 и DR14) и развитием заболевания [6]. Известно, что больше чем у 95% пациентов с ВП выявляется один из следующих аллелей: DRB1*0402 или DQB1*0503 [6, 7].
Заболевание более чем в половине случаев начинается с появления пузырей на слизистой оболочке полости рта [8], на месте которых быстро формируются эрозии с блестящей, влажной поверхностью ярко-красного цвета с тенденцией к периферическому росту, что сопровождается болью при глотании и гиперсаливацией. При ВП могут быть поражены и другие слизистые оболочки: конъюнктива, слизистые оболочки носа, глотки, гортани, пищевода, влагалища, уретры и ануса [9]. Клинические кожные проявления ВП характеризуются появлением пузырей разного размера с тонкой покрышкой на видимо неизмененной коже преимущественно волосистой части головы, лица и подмышечных областей. Пузыри отличаются коротким периодом существования и часто остаются незамеченными как пациентом, так и врачом. Возможна генерализация кожного процесса с формированием обширных очагов поражения, причиняющих мучительную боль пациентам [8]. Без соответствующего лечения у больных ВП возможен летальный исход [10].
Патофизилогическая роль десмоглеина-3
В норме клетки эпидермиса соединены с помощью белков десмосом, которые обеспечивают крепкую адгезию прилегающих друг к другу соседних клеток. Нарушение клеточной адгезии на пораженном участке эпидермиса или слизистой оболочки приводит к акантолизу, в результате чего при ВП образуются интраэпидермальные полости, заполненные тканевой жидкостью. Иммунопатологическая картина характеризуется циркулирующими в крови и фиксированными в эпидермисе IgG, которые направлены против аутоантигена десмоглеина-3 (Dsg3) при поражении слизистых оболочек и десмоглеина-1 (Dsg1) при поражении кожи [11, 12].
У 80–100% больных ВП в сыворотке крови выявляются аутоантитела к Dsg3, возникновение которых выступает важным фактором, способствующим развитию клинического фенотипа ВП [13]. В исследовании K. Bhol и соавт. (1995 г.) у пациентов с ВП в острой фазе заболевания выявлены высокие титры аутоантител, представленных иммуноглобулинами класса G, преимущественно IgG1 и IgG4, специфичных к пептидам Bos 1 и Bos 6 соответственно. Bos 1 и Bos 6 — это синтетические пептиды, выбранные как ключевые эпитопы для исследования аутоантител, причем Bos 1 включает аминокислотную последовательность примерно с 50-й по 79-ю позицию, которые идентичны участкам внеклеточного домена EC1 Dsg3, а Bos 6 — с 200-й по 229-ю, которые соответствуют участкам внеклеточного домена EC2 Dsg3.
В 1995 г. стало известно, что IgG4, связывающиеся с EC2, играют ключевую роль в инициации акантолиза и развитии клинической картины ВП, тогда как IgG4, связывающиеся с EC1, участвуют в поддержании патологического процесса [14]. У здоровых родственников больных ВП определяется низкий титр EC1-специфичных IgG1, не способных вызвать акантолиз. В острой фазе заболевания у пациентов с ВП отмечается более высокий титр IgG1, реагирующих с EC1, по сравнению с уровнем IgG4, связывающихся с EC2. Это объясняется тем, что иммунная система уже «знакома» с EC1 до развития болезни, а при акантолизе происходит выброс EC1-антигенов, усиливающих иммунный ответ, который сопровождается клиническими проявлениями ВП [15–17]. В период ремиссии уровень патогенных IgG4 постепенно снижается вплоть до полного исчезновения, что указывает на прямую связь IgG4 с активностью заболевания, в то время как IgG1 сохраняются в статистически значимо меньших количествах (p < 0,01) [14]. R. Hamilton и соавт. (1988 г.) в своем исследовании не обнаружили аутоантител подклассов G2 и G3 в сыворотке крови пациентов с ВП [15]. В более поздней работе J. Torzecka и соавт. (2007 г.) показано, что у пациентов в активной стадии ВП преобладали IgG4 и IgG1 (96 и 76% соответственно), в то время как в период клинической ремиссии антитела относились преимущественно к подклассам G2 (75%) и G4 (37,5%), что подтверждает поликлональную продукцию аутоантител при ВП и их различное распределение в зависимости от активности заболевания [18]. Недавно появившиеся данные свидетельствуют о том, что IgG4 выявляются в 90,8% случаев активного заболевания и коррелируют с тяжестью кожных проявлений ВП, IgG1 встречаются в 40% случаев, а IgG2 и IgG3 — в 26,2%. Сочетание IgG3 с IgG4 усиливает патогенность последних за счет синергетического эффекта, а разнообразие и уровень специфических для Dsg3 подклассов IgG влияют как на активность заболевания, так и на риск рецидива [19].
Связывание IgG с Dsg3 стимулирует сигнальный путь фосфолипазы C, что вызывает высвобождение кальция и активацию протеинкиназы C и приводит к фосфорилированию Dsg3 с его последующим эндоцитозом и деградацией в лизосомах. В конечном итоге происходит истощение Dsg3, важного компонента десмосом, потеря межклеточной связи и образование пузырей [20]. Dsg3 широко представлен во всех слоях эпителия слизистых оболочек и в шиповатом слое эпидермиса, в отличие от десмоглеина-1 (Dsg1), который обнаруживается главным образом в коже, и его содержание возрастает от базального к супрабазальным слоям эпидермиса [21].
Dsg3 включает в себя пять внеклеточных доменов (EC1–EC5), один трансмембранный и один внутриклеточный (рис. 1). Доменная организация Dsg3 определяет как физиологические функции, так и патогенез ВП. Внутриклеточный домен взаимодействует с плакофилином-3 (PKP3) и элементами цитоскелета, регулируя стабильность десмосом, а также запускает сигнальный каскад реакций после связывания аутоантител с внеклеточной частью Dsg3 [22]. Трансмембранный домен осуществляет интеграцию Dsg3 в плазматическую мембрану клетки [23]. Пять внеклеточных доменов (EC1–EC5), каждый из которых примерно включает 110 аминокислот: EC1 (1–109), EC2 (110–219), EC3 (220–335), EC4 (336–450) и EC5 (451–566), в норме обеспечивают крепкую адгезию прилегающих друг к другу молекул соседних клеток [24, 25]. Каждый домен образован семью β-тяжами, формирующими бочкообразную структуру. Внеклеточные домены Dsg3 разделены линкерными участками, которые координируют связывание трех ионов кальция (Ca2+) каждый. Связывание кальция стабилизирует конформацию белка и способствует его адгезивной функции. Внеклеточные домены имеют высокую структурную гомологию (особенно EC1, EC2 и EC3), за исключением мембранного проксимального домена EC5 [25].
Рис. 1. Доменная организация Dsg3: 1 — внеклеточные домены; 2 — трансмембранный домен; 3 — внутриклеточный домен
Fig. 1. Domain organization of Dsg3: 1 — extracellular domains; 2 — transmembrane domain; 3 — intracellular domain
Антитела, направленные против внеклеточных доменов Dsg3, не всегда демонстрируют одинаковую степень патогенности [26]. В исследовании A. Payne и соавт. (2005 г.) показано, что моноклональные антитела, нацеленные преимущественно на EC1, индуцируют акантолиз в модели неонатальных мышей, в то время как антитела к другим доменам такой способности почти не проявляли [27], а антитела против EC2 обладают умеренной патогенностью (в отличие от ранее проведенных исследований 1995 г.): они усиливают эффект антител к EC1 и могут быть недостаточными для самостоятельной индукции акантолиза [14, 28].
В работе K. Tsunoda и соавт. (2003 г.) описано, что изолированное связывание антител с EC2 в отсутствие антител к EC1 редко вызывает акантолиз [28]. В исследовании W. Heupel и соавт. (2008 г.) показано, что моноклональные IgG против определенной полосы (aa1–161) в пределах NH2-конца Dsg3 являются патогенными, т.е. вызывают внутриэпидермальную потерю адгезии у неонатальных мышей. При этом акантолиз вызывают в основном IgG, направленные против EC1, и в меньшей степени — против EC2 [26]. H. Takeshita и соавт. (2009 г.) выявили, что аутоантитела, специ-фичные к EC3, EC4 и EC5, не индуцировали акантолиз в моделях in vitro, что подтвердило их непатогенный характер. Отмечено, что они способны изменять архитектонику десмосом, но не влияют на клеточную адгезию напрямую [29].
В работе T. Schmitt и соавт. (2023 г.) сравнивали эффекты двух групп моноклональных антител к внеклеточным доменам Dsg3: 2G4 (направлены против EC5-домена) и AK23 (против EC1-домена). Описано, что AK23 значительно сильнее нарушает межклеточную адгезию по сравнению с 2G4. Обе группы антител вызывали ретракцию кератина и уменьшение количества десмосом, однако только AK23 индуцировал истощение Dsg3. Разная патогенность антител может быть обусловлена локализацией доменов: эпитопы EC1–ЕС2 расположены в наиболее внешней части молекулы и обладают большей доступностью для антител, в отличие от эпитопов EC3–EC5, которые находятся ближе к мембране [30]. Вместе с тем антитела, направленные против EC5, в отдельных случаях могут запускать акантолиз через альтернативные сигнальные пути [31]. Описано, что потеря межклеточной адгезии предположительно может осуществляться через сигнальную систему, зависящую от митоген-активируемой протеинкиназы (МАРК) [32].
В исследовании S. Tavakolpour и соавт. (2024 г.), проведенном в Иране, установлено, что наиболее иммуногенным является N-концевой домен EC1, против которого формируются аутоантитела у 86% пациентов. Это может зависеть от многих факторов, включая стадию и тяжесть заболевания ВП. Реактивность к другим доменам наблюдалась значительно реже: EC2 — у 26%, EC3 — у 14%, EC4 — у 29% и EC5 — у 23% пациентов [33]. Данные результаты подтверждают ранее опубликованную информацию, в которой подчеркивалась высокая иммуногенность N-конца (EC1 и/или EC2) Dsg3 у пациентов с ВП по сравнению с другими эктодоменами [34, 35].
Предполагаются два основных механизма воздействия антител на кератиноциты. Первый — физическое препятствие между Dsg3 и десмоколлином, преимущественно со стороны N-конца [36, 37]. Второй механизм связан с индукцией внутриклеточных сигнальных путей в кератиноцитах, что приводит к кластеризации и интернализации Dsg3, т.е. активации сигнальных каскадов, приводящей к нарушению внутриэпидермального соединения [38–40]. M. Amagai и соавт. (2020 г.) описали, что у пациентов из Японии и Индии чаще выявляются антитела к EC2- и EC3- доменам Dsg3, тогда как у пациентов из Европы и Северной Америки преобладают антитела к EC1-домену. Это может быть связано с различиями в HLA-ассоциациях и генетической предрасположенностью [41]. Несмотря на то что аутоантитела против других отдельных доменов, включая EC3, EC4 и EC5, обнаруживаются при активном заболевании, они практически не вызывают акантолиз [29, 33, 42].
В работе S. Tavakolpour и соавт. (2024 г.) определено, что уровень антител к EC1, EC2-3, EC2-5 и EC3- 4 коррелировал с индексом PDAI (p < 0,05), особенно значимыми были уровни аутоантител против EC1- домена [33]. Определение профиля аутоантител и их уровня против различных эктодоменов Dsg3 у пациентов может быть полезным для прогнозирования тяжести заболевания, а также при разработке новых методов таргетной терапии, включая создание химерных иммунорецепторов на основе аутоантигена ВП — Dsg3, которые могут направлять Т-клетки на уничтожение аутореактивных В-лимфоцитов благодаря специфичности В-клеточного рецептора, что описано в работе С. Ellebrecht и соавт. (2016 г.) [43].
Вопрос о том, насколько точно профиль антител к Dsg3 коррелирует с клиническими проявлениями заболевания, до сих пор остается дискуссионным. В некоторых исследованиях показано, что высокие уровни IgG к Dsg3 связаны с большей степенью тяжести заболевания [44, 45]. Однако в других исследованиях результаты ИФА на анти-Dsg3 не коррелировали с фенотипом заболевания [46, 47]. В исследовании S. Tavakolpour и соавт. (2024 г.) отмечено, что уровень антител к EC1 значительно выше у пациентов в активной фазе по сравнению с пациентами в ремиссии, панели EC3-5 и EC2-5 также показывали различия между фазами заболевания, однако это не было подтверждено в многофакторном анализе [33], что требует проведения дальнейших исследований в разных популяциях.
Заключение
Современные данные о патогенезе вульгарной пузырчатки подчеркивают важную роль Dsg3 и его отдельных внеклеточных доменов, прежде всего EC1 и EC2, в инициации аутоиммунного процесса и формировании клинического фенотипа заболевания. Вариабельность патогенности антител в зависимости от их доменной специфичности может быть использована в качестве маркера оценки прогноза заболевания, а также открывает новые возможности для разработки таргетных терапевтических стратегий.
Об авторах
Арфеня Эдуардовна Карамова
Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии
Автор, ответственный за переписку.
Email: karamova@cnikvi.ru
ORCID iD: 0000-0003-3805-8489
SPIN-код: 3604-6491
к.м.н., доцент
Россия, МоскваЛюдмила Федоровна Знаменская
Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии
Email: znaml@cnikvi.ru
ORCID iD: 0000-0002-2553-0484
SPIN-код: 9552-7850
д.м.н., ведущий научный сотрудник
Россия, МоскваЕкатерина Витальевна Гирько
Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии
Email: katrin_45_34@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7723-8701
SPIN-код: 9506-0978
младший научный сотрудник
Россия, МоскваВадим Викторович Чикин
Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии
Email: chikin@cnikvi.ru
ORCID iD: 0000-0002-9688-2727
SPIN-код: 3385-4723
д.м.н., старший научный сотрудник
Россия, МоскваЕкатерина Сергеевна Куклина
Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии
Email: ekaterina.kuklina.00@mail.ru
ORCID iD: 0009-0007-8923-2228
клинический ординатор
Россия, МоскваСписок литературы
- Stanley JR. Pemphigus. In: Eisen AZ, Wolff K, Freedberg IM, Austen KF. (eds) Fitzpatrick’s dermatology in general medicine. 8th ed. Vol. 2. N.Y.: MacGraw-Hill; 2012. P. 606–614.
- Hertl M. Autoimmune diseases of the skin: pathogenesis, diagnosis, management. 3rd ed. N.Y.: Springer Wien; 2011. P. 593.
- Махнева Н.В., Теплюк Н.П., Белецкая Л.В. Аутоиммунная пузырчатка. От истоков развития до наших дней. М.: Издательские решения; 2016. С. 308. [Mahneva NV, Tepluk NP, Beletskaya LV. Autoimmune pemphigus. From the origins of development to the present day. Moscow: Publishing solutions; 2016. P. 308. (In Russ.)]
- Porro AM, Seque CA, Ferreira MCC, Enokihara MMSES. Pemphigus vulgaris. An Bras Dermatol. 2019;94(3):264–278. doi: 10.1590/abd1806-4841.20199011
- Rosi-Schumacher M, Baker J, Waris J, Seiffert-Sinha K, Sinha AA. Worldwide epidemiologic factors in pemphigus vulgaris and bullous pemphigoid. Front Immunol. 2023;14:1159351. doi: 10.3389/fimmu.2023.1159351
- Amber KT, Valdebran M, Grando SA. Non-Desmoglein Antibodies in Patients with Pemphigus Vulgaris. Front Immunol. 2018;9:1190 doi: 10.3389/fimmu.2018.01190
- Amber KT, Staropoli P, Shiman MI, Elgart GW, Hertl M. Autoreactive T cells in the immune pathogenesis of pemphigus vulgaris. Exp Dermatol. 2013;22(11):699–704. doi: 10.1111/exd.12229
- Burns T, Breathnachet S, Cox N, Griffiths CEM. Rook’s textbook of dermatology. N.J.: John Wiley & Sons; 2008. P. 4192.
- Bolognia JL, Jorizzo JL, Schaffer JV. Dermatology. 3rd ed. Vol. 1. Philadelphia: Elsevier; 2012. P. 469–471.
- Карамова А.Э., Знаменская Л.Ф., Городничев П.В., Краснова К.И., Плотникова Е.Ю., Нефедова М.А., и др. Эффективность применения ритуксимаба в лечении пациентов с вульгарной пузырчаткой. Вестник дерматологии и венерологии. 2024;100(5):68–78. [Karamova AE, Znamenskaya LF, Gorodnichev PV, Krasnova KI, Plotnikova EU, Nefedova MA, et al. Effectiveness of rituximab in the treatment of patients with pemphigus vulgarus. Vestnik Dermatologii i Venerologii. 2024;100(5):68–78. (In Russ.)] doi: 10.25208/vdv16803
- Абрамова Т.В., Шпилевая М.В., Кубанов А.А. Новый твердофазный иммуносорбент для селективного связывания аутоантител к десмоглеину 3 типа у больных вульгарной пузырчаткой. Acta Naturae. 2020;12(2):63–69. [Abramova TV, Spilevaya MV, Kubanov AA. A New Solid-Phase Immunosorbent for Selective Binding of Desmoglein 3 Autoantibodies in Patients with Pemphigus Vulgaris. Acta Naturae. 2020;12(2):63–69. (In Russ.)] doi: 10.32607/actanaturae.10893
- Harman KE, Seed PT, Gratian MJ, Bhogal BS, Challacombe SJ, Black MM. The severity of cutaneous and oral pemphigus is related to desmoglein 1 and 3 antibody levels. Br J Dermatol. 2001;144(4):775–780. doi: 10.1046/j.1365-2133.2001.04132.x
- Кубанов А.А., Знаменская Л.Ф., Абрамова Т.В., Свищенко С.И. К вопросам диагностики истинной (акантолитической) пузырчатки. Вестник дерматологии и венерологии; 2014;90(6):121–130. [Kubanov AA, Znamenskaya LF, Abramova TV, Svishchenko SI. Revisited diagnostics of true (acantholytic) pemphigus. Vestnik Dermatologii i Venerologii. 2014;90(6):121–130. (In Russ.)] doi: 10.25208/0042-4609-2014-90-6-121-130
- Bhol K, Natarajan K, Nagarwalla N, Mohimen A, Aoki V, Ahmed AR. Correlation of peptide specificity and IgG subclass with pathogenic and nonpathogenic autoantibodies in pemphigus vulgaris: a model for autoimmunity. Proc Natl Acad Sci U S A. 1995;92(11):5239–5243. doi: 10.1073/pnas.92.11.5239
- Jones CC, Hamilton RG, Jordon RE. Subclass distribution of human IgG autoantibodies in pemphigus. J Clin Immunol. 1988;8(1):43–49. doi: 10.1007/BF00915155
- Oloumi A, Le ST, Liu Y, Herbert S, Ji-Xu A, Merleev AA, et al. Pemphigus-Associated Desmoglein-Specific IgG1 and IgG4 Have a Dominant Agalactosylated Glycan Modification. J Invest Dermatol. 2024;144(11):2584–2587.e6. doi: 10.1016/j.jid.2024.03.044
- Sitaru C, Mihai S, Zillikens D. The relevance of the IgG subclass of autoantibodies for blister induction in autoimmune bullous skin diseases. Arch Dermatol Res. 2007;299(1):1–8. doi: 10.1007/s00403-007-0734-0
- Torzecka JD, Woźniak K, Kowalewski C, Waszczykowska E, Sysa-Jedrzejowska A, Pas HH, et al. Circulating pemphigus autoantibodies in healthy relatives of pemphigus patients: coincidental phenomenon with a risk of disease development? Arch Dermatol Res. 2007;299(5–6):239–243. doi: 10.1007/s00403-007-0760-y
- Golinski ML, Lemieux A, Maho-Vaillant M, Barray M, Drouot L, Schapman D, et al. The Diversity of Serum Anti-DSG3 IgG Subclasses Has a Major Impact on Pemphigus Activity and Is Predictive of Relapses after Treatment with Rituximab. Front Immunol. 2022;13:849790. doi: 10.3389/fimmu.2022.849790
- Kitajima Y. New insights into desmosome regulation and pemphigus blistering as a desmosome-remodeling disease. Kaohsiung J Med Sci. 2013;29(1):1–13. doi: 10.1016/j.kjms.2012.08.001
- Кубанова А.А., Карамова А.Э., Кубанов А.А. Поиск мишеней для таргетной терапии аутоимунных заболеваний в дерматологии. Вестник РАМН. 2015;70(2):159–164. [Kubanova AA, Karamova AE, Kubanov AA. Furute therapeutic targets in management of autoimmune skin diseases Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2015;70(2):159–164. (In Russ.)] doi: 10.15690/vramn.v70i2.1308
- Fuchs M, Foresti M, Radeva MY, Kugelmann D, Keil R, Hatzfeld M, et al. Plakophilin 1 but not plakophilin 3 regulates desmoglein clustering. Cell Mol Life Sci. 2019;76(17):3465–3476. doi: 10.1007/s00018-019-03083-8
- Tselepis C, Chidgey M, North A, Garrod D. Desmosomal adhesion inhibits invasive behavior. Proc Natl Acad Sci U S A. 1998;95(14):8064–8069. doi: 10.1073/pnas.95.14.8064
- Müller R, Svoboda V, Wenzel E, Gebert S, Hunzelmann N, Müller HH, et al. IgG reactivity against non-conformational NH-terminal epitopes of the desmoglein 3 ectodomain relates to clinical activity and phenotype of pemphigus vulgaris. Exp Dermatol. 2006;15(8):606–614. doi: 10.1111/j.1600-0625.2006.00451.x
- Brasch J, Harrison OJ, Honig B, Shapiro L. Thinking outside the cell: how cadherins drive adhesion. Trends Cell Biol. 2012;22(6):299–310. doi: 10.1016/j.tcb.2012.03.004
- Heupel WM, Zillikens D, Drenckhahn D, Waschke J. Pemphigus vulgaris IgG directly inhibit desmoglein 3-mediated transinteraction. J Immunol. 2008;181(3):1825–1834. doi: 10.4049/jimmunol.181.3.1825
- Payne AS, Ishii K, Kacir S, Lin C, Li H, Hanakawa Y, Tsunoda K, et al. Genetic and functional characterization of human pemphigus vulgaris monoclonal autoantibodies isolated by phage display. J Clin Invest. 2005;115(4):888–899. doi: 10.1172/JCI24185
- Tsunoda K, Ota T, Aoki M, Yamada T, Nagai T, Nakagawa T, et al. Induction of pemphigus phenotype by a mouse monoclonal antibody against the amino-terminal adhesive interface of desmoglein 3. J Immunol. 2003;170(4):2170–2178. doi: 10.4049/jimmunol.170.4.2170
- Yokouchi M, Saleh MA, Kuroda K, Hachiya T, Stanley JR, Amagai M, et al. Pathogenic epitopes of autoantibodies in pemphigus reside in the amino-terminal adhesive region of desmogleins which are unmasked by proteolytic processing of prosequence. J Invest Dermatol. 2009;129(9):2156–2166. doi: 10.1038/jid.2009.61
- Schmitt T, Hudemann C, Moztarzadeh S, Hertl M, Tikkanen R, Waschke J. Dsg3 epitope-specific signalling in pemphigus. Front Immunol. 2023;14:1163066. doi: 10.3389/fimmu.2023.1163066
- Hudemann C, Maglie R, Llamazares-Prada M, Beckert B, Didona D, Tikkanen R, et al. Human Desmocollin 3 — Specific IgG Antibodies Are Pathogenic in a Humanized HLA Class II Transgenic Mouse Model of Pemphigus. J Invest Dermatol. 2022;142(3 Pt B):915–923.e3. doi: 10.1016/j.jid.2021.06.017
- Cirillo N, Lanza M, De Rosa A, Femiano F, Gombos F, Lanza A. At least three phosphorylation events induced by pemphigus vulgaris sera are pathogenically involved in keratinocyte acantholysis. Int J Immunopathol Pharmacol. 2008;21(1):189–195. doi: 10.1177/039463200802100121
- Tavakolpour S, Noormohammadi Z, Daneshpazhooh M, Gholami A, Mahmoudi H. IgG reactivity to different desmoglein-3 ectodomains in pemphigus vulgaris: novel panels for assessing disease severity. Front Immunol. 2024;15:1469937. doi: 10.3389/fimmu.2024.1469937
- Tsunoda K, Ota T, Aoki M, Yamada T, Nagai T, Nakagawa T, et al. Induction of pemphigus phenotype by a mouse monoclonal antibody against the amino-terminal adhesive interface of desmoglein 3. J Immunol. 2003;170(4):2170–2178. doi: 10.4049/jimmunol.170.4.2170
- Ларина Е.Н., Карасев В.С., Шпилевая М.В., Алиев Т.К., Бочкова О.П., Карамова А.Е., и др. Рекомбинантный фрагмент внеклеточного домена десмоглеина 3 человека, слитый с Fc-фрагментом человеческого IgG1, селективно адсорбирует аутореактивные антитела из сыворотки пациентов с пузырчаткой. Доклады Академии наук. 2022;507(6):708–712. [Larina EN, Karasev VS, Shpilevaya MV, Aliev TK, Bochkova OP, Karamova AE, et al. Recombinant fragment of the extracellular domain of human desmoglein 3 fused with the Fc-fragment of human IgG1 selectively adsorbs autoreactive antibodies from the sera of pemphigus patients. Doklady Akademii Nauk. 2022;507(6):708–712. (In Russ.)] doi: 10.31857/S0869565222060103
- Amagai M, Klaus-Kovtun V, Stanley JR. Autoantibodies against a novel epithelial cadherin in pemphigus vulgaris, a disease of cell adhesion. Cell. 1991;67(5):869–877. doi: 10.1016/0092-8674(91)90360-b
- Saito M, Stahley SN, Caughman CY, Mao X, Tucker DK, Payne AS, et al. Signaling dependent and independent mechanisms in pemphigus vulgaris blister formation. PloS One. 2012;7(12):e50696. doi: 10.1371/journal.pone.0050696
- Seishima M, Esaki C, Osada K, Mori S, Hashimoto T, Kitajima Y. Pemphigus IgG, but not bullous pemphigoid IgG, causes a transient increase in intracellular calcium and inositol 1,4,5-triphosphate in DJM-1 cells, a squamous cell carcinoma line. J Invest Dermatol. 1995;104(1):33– 37. doi: 10.1111/1523-1747.ep12613469
- Esaki C, Seishima M, Yamada T, Osada K, Kitajima Y. Pharmacologic evidence for involvement of phospholipase C in pemphigus IgG-induced inositol 1,4,5-trisphosphate generation, intracellular calcium increase, and plasminogen activator secretion in DJM-1 cells, a squamous cell carcinoma line. J Invest Dermatol. 1995;105(3):329–333. doi: 10.1111/1523-1747.ep12319948
- Schmitt T, Waschke J. Autoantibody-specific signalling in pemphigus. Front Med (Lausanne). 2021;8:701809. doi: 10.3389/fmed.2021.701809
- Egami S, Yamagami J, Amagai M. Autoimmune bullous skin diseases, pemphigus and pemphigoid. J Allergy Clin Immunol. 2020;145(4):1031–1047. doi: 10.1016/j.jaci.2020.02.013
- Strandmoe AL, Bremer J, Diercks GFH, Gostyński A, Ammatuna E, Pas HH, et al. Beyond the skin: B cells in pemphigus vulgaris, tolerance and treatment. Br J Dermatol. 2024;191(2):164–176. doi: 10.1093/bjd/ljae107
- Ellebrecht CT, Bhoj VG, Nace A, Choi EJ, Mao X, Cho MJ, et al. Reengineering chimeric antigen receptor T cells for targeted therapy of autoimmune disease. Science. 2016;353(6295):179–184. doi: 10.1126/science.aaf6756
- Schmidt E, Dähnrich C, Rosemann A, Probst C, Komorowski L, Saschenbrecker S, et al. Novel ELISA systems for antibodies to desmoglein 1 and 3: correlation of disease activity with serum autoantibody levels in individual pemphigus patients. Exp Dermatol. 2010;19(5):458–463. doi: 10.1111/j.1600-0625.2010.01069.x
- Van ATT, Nguyen TV, Huu SN, Thi LP, Minh PPT, Huu N, et al. Improving treatment outcome of pemphigus vulgaris on Vietnamese patients by using desmoglein elisa test. Open Access Maced J Med Sci. 2019;7(2):195–197. doi: 10.3889/oamjms.2019.003
- Mohebi F, Tavakolpour S, Teimourpour A, Toosi R, Mahmoudi H, Balighi K, et al. Estimated cut-off values for pemphigus severity classification according to pemphigus disease area index (PDAI), autoimmune bullous skin disorder intensity score (ABSIS), and anti-desmoglein 1 autoantibodies. BMC Dermatol. 2020;20(1):13. doi: 10.1186/s12895-020-00105-y
- Delavarian Z, Layegh P, Pakfetrat A, Zarghi N, Khorashadizadeh M, Ghazi A. Evaluation of desmoglein 1 and 3 autoantibodies in pemphigus vulgaris: correlation with disease severity. J Clin Exp Dent. 2020;12(5):e440–e445. doi: 10.4317/jced.56289
Дополнительные файлы