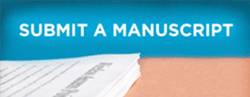The assessment of the facial skin microbiota in patients with seborrheic dermatitis and metabolic syndrome
- Authors: Molodykh K.Y.1, Araviiskaia E.R.1, Sokolovskiy E.V.1, Kraeva L.A.1
-
Affiliations:
- Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
- Issue: Vol 100, No 6 (2024)
- Pages: 61-69
- Section: ORIGINAL STUDIES
- Submitted: 25.01.2024
- Accepted: 19.11.2024
- Published: 15.12.2024
- URL: https://vestnikdv.ru/jour/article/view/16761
- DOI: https://doi.org/10.25208/vdv16761
- ID: 16761
Cite item
Full Text
Abstract
Background. Currently, the attention of dermatologists is often directed to the study of changes in bacterial colonization of the skin, as one of the important links in the pathogenesis of skin diseases, including psoriasis, atopic dermatitis, acne, and seborrheic dermatitis. In recent years, data have emerged indicating a direct link between changes in the composition of the skin microbiota and obesity, as well as related diseases, primarily type 2 diabetes mellitus.
The aims. To give a clinical and microbiological characteristic of seborrheic dermatitis of the face in persons with metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus and in persons without concomitant pathology.
Methods. The study included 90 patients with seborrheic dermatitis, divided into 3 groups (1 — patients with seborrheic dermatitis; 2 — patients with seborrheic dermatitis and metabolic syndrome; 3 — patients with seborrheic dermatitis, metabolic syndrome and diabetes mellitus). The severity of the disease was determined by SEDASI score (Seborrheic Dermatitis Area and Severity Index). Metabolic syndrome was diagnosed based on the criteria of NCEP ATP III. The diagnosis of diabetes mellitus was established according to the diagnostic criteria of diabetes mellitus and other glycemic disorders (World Health Organization, 1999–2013). Classical bacteriological methods and mass spectrometric method (MALDI-TOF MS) were used to study the skin microbiome.
Results. Our study revealed an association between the presence of certain microorganisms in the skin microbiome and seborrheic dermatitis, metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus. In patients with moderate to severe seborrheic dermatitis, an increase in bacterial species isolated from the skin surface and their number in the unit volume of the investigated material. It was found that the colonization of microorganisms on the facial skin was significantly higher in patients of groups 2 and 3 compared to group 1. Among the isolated representatives of the genus Staphylococcus, the most pathogenic species of S. aureus prevailed in patients of groups 2 and 3.
Conclusion. The severity of the course and widespread lesions on the facial skin in patients with seborrheic dermatitis, metabolic syndrome and with seborrheic dermatitis, metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus are interrelated with disorders of facial skin microbiota. The growth of microorganisms in patients with seborrheic dermatitis and carbohydrate metabolism disorder is associated with severe course of facial seborrheic dermatitis and plays a significant role in the pathogenesis of the disease.
Full Text
Обоснование
Себорейный дерматит — хронический воспалительный дерматоз, возникающий в результате активизации сапрофитной флоры [1]. По данным различных авторов, распространенность себорейного дерматита в мире среди взрослого населения составляет 1–3%. Принято считать, что главенствующую роль в этиологии этого заболевания занимают липофильные дрожжевые грибы рода Malassezia. В настоящее время род Malassezia включает 18 видов, 10 из которых обнаруживают у человека: M. globosa, M. restricta, M. sympodialis, M. dermatis, M. japonica, M. obtusa, M. sloofiae, M. furfur, M. arunalokei, M. yamatoensis, причем M. globosa, M. restricta, M. furfur и M. sympodialis встречаются наиболее часто у пациентов с себорейным дерматитом [2]. Рядом авторов накоплены данные о том, что на коже волосистой части головы преобладает M. restricta (84%), на коже туловища — M. globosa (51,79%) [3]. Известно, что изменение химического состава кожного сала (снижение соотношения сквален/триглицериды) способствует гиперколонизации кожи дрожжевыми грибами с развитием воспалительной реакции [4].
В настоящее время установлено, что наиболее важными факторами развития себорейного дерматита являются генетическая предрасположенность, иммунодефицитные состояния, беременность, стресс, прием системных кортикостероидов или гормональных контрацептивов системного действия, хронические инфекции, болезнь Паркинсона, болезнь Иценко–Кушинга и др. Вместе с тем эндокринные нарушения и гиперсекреция кожного сала также могут быть причиной активации условно-патогенного гриба.
Метаболический синдром представляет собой клинико-лабораторную совокупность признаков, объединяющих абдоминальное ожирение, увеличение массы висцерального жира, снижение чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемию, а также нарушения липидного и углеводного обменов. В настоящее время считается, что основной причиной развития метаболического синдрома является инсулинорезистентность. О наличии связи между метаболическим синдромом и хроническими воспалительными заболеваниями кожи свидетельствуют признаки оксидативного стресса и выявление маркеров воспаления [5].
В последнее время все большее внимание уделяется патогенетической роли микробиоты кожи при метаболическом синдроме. Болезни обмена веществ также характеризуются развитием латентного воспаления, в формировании которого большую роль играет адаптивная иммунная система [5]. Так, на фоне возникающего дисбиоза кожи представители кожной микробиоты могут проявлять факторы патогенности, что способствует хроническому течению патологических процессов, в частности себорейного дерматита.
В последние десятилетия появление новых методов идентификации микроорганизмов позволяет проводить исследования, цель которых — выявление закономерностей в распределении видов Malassezia spp. Это, в свою очередь, способствует более детальному изучению влияния различных микроорганизмов на течение и степень тяжести различных дерматозов, в том числе себорейного дерматита. Было установлено, что представители родов Micrococcus, Acinetobacter, Staphylococcus, Streptococcus при воспалительном типе себорейного дерматита активно продуцируют гистидиндекарбоксилазу и увеличивают пул свободного гистамина, которые при взаимодействии с гистаминовыми H1- и H2-рецепторами в коже вызывают отек, эритему, зуд и повышают секрецию сальных желез. Было показано, что при себорейном дерматите волосистой части головы лидирующее место среди выделенной микрофлоры занимают S. capitis (85,7%) и Micrococcus spp. (42,8%) [6].
Вместе с тем мало сведений о преобладании того или иного вида Malassezia spp. на коже лица и нет данных о взаимосвязи других микроорганизмов с Malassezia spp. в этой локализации с развитием воспалительного процесса себорейного дерматита на лице у пациентов с нарушением углеводного обмена.
Цель исследования — дать клинико-микробиологическую характеристику себорейного дерматита лица у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа и у лиц без сопутствующей патологии.
Методы
Дизайн исследования
Было проведено открытое сравнительное контролируемое исследование среди 90 пациентов в возрасте от 32 до 67 лет с себорейным дерматитом лица, с себорейным дерматитом лица и метаболическим синдромом, с себорейным дерматитом лица, метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа.
Критерии соответствия
Критерии включения: пациенты с себорейным дерматитом лица, с себорейным дерматитом лица и метаболическим синдромом, с себорейным дерматитом лица, метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа в возрасте 18–70 лет, которые не получали никакого местного и системного лечения антибактериальными и противогрибковыми препаратами или фототерапии в течение предыдущих двух месяцев для лечения себорейного дерматита.
Критерии невключения: беременность, инфицированность ВИЧ-инфекцией, а также получение пациентами психотропных препаратов и наличие сопутствующих психоневрологических заболеваний.
Условия проведения
Исследование проводилось на базе кафедры дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова», лабораторное сопровождение — Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в период с сентября 2022 по май 2023 г.
Описание медицинского вмешательства
Под нашим наблюдением находились пациенты с себорейным дерматитом с вовлечением кожи лица. Себорейный дерматит диагностировали на основании типичных клинических проявлений: мелкие воспалительные шелушащиеся фолликулярные папулы и эритематозно-сквамозные высыпания в себорейных зонах. Тяжесть заболевания оценивали с помощью площади и индекса тяжести себорейного дерматита SEDASI (Sеborrheic Dermatitis Area and Severity Index), основанного на оценке четырех участков лица, каждый из которых составляет 25% общей площади лицевой поверхности: нос (включая носогубные складки); лоб (включая область бровей и верхние веки); левая и правая щека (включая нижнее веко, ухо и подбородок). Для каждой области лица учитывалось по четыре характеристики (каждая из них оценивалась в баллах): 1) распространенность поражения; 2) наличие очагов высыпаний; 3) наличие инфильтрации, 4) степень эритемы, степень шелушения. Согласно подсчету, количество баллов 1–14 соответствовало легкой степени тяжести заболевания; 15–29 — средней; 30–44 — тяжелой; свыше 45 баллов — очень тяжелой степени [7].
Метаболический синдром диагностировали на основании критериев третьего отчета Группы экспертов Национальной образовательной программы по холестерину (National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III, NCEP ATP III), разработанных в 2001 г. [8]. Указанные критерии включали: абдоминальное ожирение (окружность талии больше 102 см у мужчин и больше 88 см у женщин); гипертриглицеридемию (триглицериды ≥ 150 мг/дл); низкий уровень липопротеинов высокой плотности (< 40 мг/дл для у мужчин и < 50 мг/дл для у женщин); гипертензию (артериальное давление ≥ 130/85 мм рт. ст.); гипергликемию (уровень глюкозы в крови натощак ≥ 110 мг/дл). Индекс массы тела (ИМТ) подсчитывался согласно соответствию между массой тела и ростом (ИМТ = m / h2).
Диагноз сахарного диабета устанавливали согласно диагностическим критериям сахарного диабета и других нарушений гликемии (Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 1999–2013) [9]. Критерии включали симптомы сахарного диабета: полиурию/ ноктурию, энурез, полидипсию, потерю массы тела, сухость слизистых и кожи, полифагию, а также уровень глюкозы в плазме ≥ 11 ммоль/л, уровень глюкозы плазмы натощак ≥ 7,0 ммоль/л, уровень двухчасовой постпрандиальной глюкозы в крови (оценивается через 2 ч после приема пищи) ≥ 11 ммоль/л, гликированный гемоглобин > 6,5%.
Для микробиологических исследований взятие материала проводилось из различных анатомических зон лица (лоб, нос, носогубный треугольник, щечная область, ушная область) путем соскоба чешуек тупым концом стерильного скальпеля с последующим нанесением полученного материала на стерильное предметное стекло [2].
Посев материала осуществляли на ряд плотных и жидких питательных сред: колумбийский, желточно-солевой агар, среду Эндо, Сабуро, тиогликолевую среду и мясопептонный бульон. Для выделения грибов рода Malassezia дополнительно использовали модифицированную плотную среду Леминга–Нотмана. Посевы проводили по методу Голда, засеянные среды инкубировали в термостате при +36 °С в течение 24–48 ч, а далее — до 5 суток при комнатной температуре, просматривая посевы каждые 24 ч на наличие роста. Рост появлялся на 2–4-е сутки. После этого подсчитывали число выросших колоний из засеянного материала. Количество микроорганизмов выражали в колониеобразующих единицах в 1 г (КОЕ/г) согласно международным стандартам. После получения «чистой» культуры дальнейшую идентификацию характерных изолятов до вида проводили методом времяпролетной масс-спектрометрии с матрично-ассоциированной лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI-TOF MS) с использованием спектрометра Microflex LRF и программного обеспечения Biotyper RTC. Значения Score ≥ 2,0 использовали в качестве критерия надежной видовой идентификации [2].
Этическая экспертиза
Работа одобрена локальным этическим комитетом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании. Исследование выполнено в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (в ред. 2013 г.).
Статистический анализ
Описательная статистика по качественным данным приведена в виде n (%), по количественным — в виде среднего арифметического и стандартного отклонения M (SD) в случае нормального распределения и в виде медианы и межквартильного размаха Me (Q1–Q3) в случае негауссовского распределения. Если в одной из групп распределение не было гауссовским, то для всех групп единообразно использовано представление Me (Q1–Q3). Нормальность распределений проверялась критерием Шапиро–Уилка. Статистическая проверка гипотез для качественных значений проводилась при помощи точного критерия Фишера. Для количественных значений при сравнении разных групп применялся критерий Стьюдента. Если хотя бы одна величина была негауссовской, использовался критерий Манна–Уитни. При проверке гипотез достаточным условием отклонения нулевой гипотезы являлось p-значение, меньшее 0,05, с учетом поправки на множественные сравнения по методу Холма–Бонферрони.
Результаты
Объекты (участники) исследования
Группу исследования составили 90 пациентов в возрасте от 18 до 70 лет. Всех участников исследования разделили на три группы: в группу 1 включили пациентов с себорейным дерматитом без признаков метаболического синдрома (n = 24; 14 мужчин, 10 женщин) в возрасте 39,9 (10,8) года; в группу 2 — пациентов с себорейным дерматитом и метаболическим синдромом (n = 33; 23 мужчины, 10 женщин) в возрасте 41,7 (10,2) года; в группу 3 — с себорейным дерматитом, проявлениями метаболического синдрома и сахарным диабетом 2 типа (n = 33; 19 мужчин, 14 женщин) в возрасте 50,7 (9,3) года. Среднее значение индекса SEDASI составило у пациентов группы 1 — 6,82 ± 2,53; группы 2 — 16,81 ± 2,72; группы 3 — 36,63 ± 10,58.
Основные результаты исследования
У пациентов группы 1 на коже лица, преимущественно в области надбровий и переносицы, обнаруживались эритематозно-сквамозные элементы, инфильтрация, а также незначительное мелкопластинчатое шелушение в области кожи бровей. У пациентов группы 2 кожный процесс характеризовался жирным типом себорейного дерматита: обнаруживались эритематозно-сквамозные очаги ярко-розового цвета, покрытые крупными жирными чешуйками. У пациентов группы 3 на коже лица наблюдались обширные эритематозно-сквамозные очаги, шелушащиеся фолликулярные папулы, фолликулярные пустулы и бляшки ярко-красного цвета, покрытые чешуйко-корками, и кожный процесс характеризовался воспалительным типом.
Микробиологическое исследование продемонстрировало наличие Malassezia spp. у пациентов всех трех групп.
Таксономическое распределение Malassezia на видовом уровне позволило идентифицировать M. globosa, M. restricta, M. sympodialis и M. furfur, являющиеся наиболее распространенными видами (рис. 1–4). У каждого отдельно взятого пациента с себорейным дерматитом лица обнаруживалось более одного вида дрожжеподобных грибов Malassezia. Среди видов Malassezia, культивируемых из чешуек кожи лица, M. globosa была идентифицирована как наиболее часто встречающаяся в группах 2 и 3, тогда как в группе 1 преобладала M. furfur. M. globosa в группе 1 на коже лица наблюдалась в 12 (50,0%) случаях, что значимо реже, чем в группе 2 (29 (87,9%); p = 0,014) и группе 3 (32 (97,0%); p < 0,001). Различий в частоте других видов Malassezia spp. на коже лица, а также различий по M. globosa между группами 2 и 3 выявлено не было (табл. 1).
Рис. 1. Частота встречаемости M. furfur на коже лица групп 1–3, %
Fig. 1. Frequency of occurrence of M. furfur on the skin of the face groups 1–3, %
Рис. 2. Частота встречаемости M. restricta на коже лица групп 1–3, %
Fig. 2. Frequency of occurrence of M. restricta on the skin of the face groups 1–3, %
Рис. 3. Частота встречаемости M. globosa на коже лица групп 1–3, %
Fig. 3. Frequency of occurrence of M. globosa on the skin of the face groups 1–3, %
Рис. 4. Частота встречаемости M. sympodialis на коже лица групп 1–3, %
Fig. 4. Frequency of occurrence of M. sympodialis on the skin of the face groups 1–3, %
Таблица 1. Частота встречаемости видов Malassezia spp. на коже лица по группам
Table 1. Frequency of occurrence of Malassezia spp. species on the skin of the face by groups
Вид | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | p-значение |
Malassezia sympodialis | 11 (45,8%) | 26 (78,8%) | 25 (75,8%) | p12 = 0,07 p13 = 0,15 p23 = 1,00 |
Malassezia globosa | 12 (50,0%) | 29 (87,9%) | 32 (97,0%) | p12 = 0,014 p13 < 0,001 p23 = 1,00 |
Malassezia restricta | 16 (66,7%) | 22 (66,7%) | 24 (72,7%) | p12 = 1,00 p13 = 1,00 p23 = 1,00 |
Malassezia furfur | 19 (79,2%) | 22 (66,7%) | 28 (84,8%) | p12 = 1,00 p13 = 1,00 p23 = 0,82 |
У больных тяжелым себорейным дерматитом по сравнению с легким значительно чаще обнаруживалась обсемененность M. sympodialis. При тяжелом себорейном дерматите лица M. sympodialis была выявлена у 25 (75,8%) больных, тогда как при легком себорейном дерматите — у 11 (45,8%) больных (p < 0,05).
При анализе результатов микробиологического исследования материала нами отмечено увеличение обсемененности пораженных участков другими микроорганизмами. Была установлена превалирующая колонизация S. aureus. При анализе всего спектра микроорганизмов, помимо S. aureus, определялись S. hominis, S. epidermidis, а также Streptococcus salivarius, S. sanguinis, Neisseria mucosa, N. subflava, Corynebacterium striatum, Escherichia coli. Отмечались значимые различия состава микроорганизмов у пациентов исследуемых групп. У пациентов с тяжелым течением заболевания и выраженной клинической картиной заболевания фиксировалось увеличение видового разнообразия микроорганизмов на коже лица по сравнению с пациентами группы 1. В группе 1 насчитывалось 4 (4–5) вида, в группах 2 и 3 — 7 (6–7) видов (p12 и p13 < 0,001). Наибольшее количество видов выделенных микроорганизмов отмечалось у пациентов с нарушением углеводного обмена (группы 2 и 3) и наблюдалось у бактерий родов Staphylococcus и Streptococcus. Из полученных нами данных (табл. 2) видно, что колонизация микроорганизмов на коже лица значимо нарастала у пациентов групп 2 и 3 по сравнению с группой 1. Среди выделенных представителей рода Staphylococcus у пациентов групп 2 и 3 преобладал наиболее патогенный вид S. аureus. У больных группы 3 S. aureus встречался в 92,3% случаев, в то время как в группе 2 — в 13,9%, а в группе 1 — в 9,7% случаев. Были обнаружены статистически значимые различия между пациентами групп 1 и 2 (p12 = 0,023). При сравнительном анализе всех трех групп статистических различий в частоте Staphylococcus epidermidis получено не было (p = 1,00). У пациентов групп 1 и 2, 1 и 3 значимо отличалось количество Streptococcus sanguinis — соответственно 6 (26,1%), 24 (65,0%), 24 (77,4%); p12 = 0,003; p13 = 0,002.
Таблица 2. Частота встречаемости микроорганизмов на коже лица по исследуемым группам
Table 2. Frequency of occurrence of microorganisms on the skin of the face according to the study groups
Вид | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | p-значение |
Staphylococcus aureus | 3 (9,7%) | 5 (13,9%) | 33 (92,3%) | p12 = 0,02 p13 < 0,001 p23 < 0,001 |
Staphylococcus hominis | 8 (22,2%) | 26 (77,8%) | 12 (38,7%) | p12 = 0,01 p13 = 1,00 p23 = 0,01 |
Staphylococcus epidermidis | 21 (63,4%) | 30 (83,3%) | 25 (80,6%) | p12 = 1,00 p13 = 1,00 p23 = 1,00 |
Streptococcus salivarius | 10 (43,5%) | 18 (50,0%) | 15 (48,4%) | p12 = 1,00 p13 = 1,00 p23 = 1,00 |
Streptococcus sanguinis | 6 (26,1%) | 24 (65,0%) | 24 (77,4%) | p12 = 0,003 p13 = 0,002 p23 = 1,00 |
Neisseria mucosa | 3 (13,0%) | 20 (87,0%) | 27 (87,1%) | p12 = 0,002 p13 < 0,001 p23 = 0,14 |
Neisseria subflava | 4 (17,4%) | 26 (72,2%) | 29 (93,5%) | p12 < 0,001 p13 < 0,001 p23 = 0,15 |
Corynebacterium striatum | 8 (34,8%) | 25 (69,4%) | 29 (93,5%) | p12 = 0,10 p13 < 0,001 p23 = 0,08 |
Escherichia coli | 2 (8,7%) | 23 (63,9%) | 21 (67,7%) | p12 < 0,001 p13 < 0,001 p23 = 1,0 |
Нежелательные явления
В настоящем исследовании нежелательных явлений зарегистрировано не было.
Обсуждение
В последние десятилетия изучение микробиоты кожи человека становится областью активных исследований в дерматологии. В норме микробиота кожи способствует поддержанию барьерной функции и обеспечению гомеостаза. Важную роль отводят защите от патогенных микроорганизмов путем выработки антимикробных пептидов бактериями-комменсалами или дрожжевыми грибами рода Malassezia [10]. Вместе с тем секреция протеаз микроорганизмами оказывает влияние на процесс шелушения и обновления рогового слоя, а выработка кожного сала и свободных жирных кислот участвуют в регуляции рН. Однако активная секреция липаз Malassezia spp. может вести к разрушению гидролипидной мантии на поверхности кожи, приводя к выраженной воспалительной реакции на коже пациентов с себорейным дерматитом. При этом установлено, что липиды, выделяемые сальными железами, могут служить источником питания для роста ряда микроорганизмов [11]. Взаимодействие Malassezia spp. с иммунной системой ведет к возникновению каскада иммунологических реакций. Было показано, что у пациентов с сахарным диабетом и метаболическим синдромом высокое значение рН поверхности кожи и высокая концентрация глюкозы в эпидермисе создают оптимальную среду для жизнедеятельности патогенных микроорганизмов. Данные нарушения могут способствовать дисбиозу кожи и развитию воспаления [12]. Кроме того, установлено, что при себорейном дерматите отмечают увеличение количества NK1+-, CD16+-лимфоцитов, повышение активности комплемента и увеличение числа активированных (HLA-DR4-positive) лимфоцитов. В периферической крови выявлено повышение концентрации провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α [13]. Так, при тяжелом течении себорейного дерматита отмечается высокая частота обсемененности пораженных участков S. aureus, S. capitis, S. epidermidis, Micrococcus spp., Acinetobacter spp. [14]. В исследовании кожных чешуек с волосистой части головы у здоровых лиц и пациентов c себорейным дерматитом наблюдали преобладание ассоциаций аскомицетовых и базидиомицетовых грибов, при этом соотношение их численности и количество выделенных видов различались у двух категорий обследованных лиц. У больных с себорейным дерматитом находили большое количество базидиомицетов, представленных преимущественно Filobasidium floriforme и Malassezia spp., а у здоровых лиц часто выявляли Cryptococcus spp. [15]. Вместе с тем уменьшение выработки кожного сала может приводить к снижению синтеза питательных веществ для симбиоза бактерий между собой и способствовать колонизации условно-патогенными и патогенными видами. В нескольких исследованиях сообщалось о сокращении доминирующего рода Cutibacterium и увеличении численности Corynebacterium на различных участках кожи у взрослых пациентов [16].
В ходе нашего исследования было показано, что при среднетяжелом и тяжелом течении себорейного дерматита лица у пациентов с нарушением углеводного обмена отмечалось увеличение выделяемых видов микроорганизмов при исследовании микробиоты кожи. Получены результаты, подтверждающие наличие различий в микробном составе между пациентами с себорейным дерматитом, себорейным дерматитом и метаболическим синдромом, себорейным дерматитом, метаболическим синдромом и сахарным диабетом. Результаты проведенных исследований помогли выявить у больных себорейным дерматитом изменения как в количественном, так и качественном составе кожной микробиоты. Наблюдалась тенденция к более высокой распространенности представителей родов Staphylococcus и Streptococcus. В зоне себорейных поражений у пациентов групп 2 и 3 неизменно возрастала численность бактерий видов S. aureus и S. epidermidis в единице объема исследуемого материала. Среди видов Malassezia, культивируемых из чешуек кожи лица, M. globosa была идентифицирована как наиболее часто встречающаяся в группах 2 и 3.
Таким образом, нами получены данные, позволяющие рассматривать себорейный дерматит как своеобразную форму «хронической инфекции», обусловленной ассоциацией различных условно-патогенных бактерий и грибов. В результате проведенных исследований установлено, что увеличение клинической тяжести себорейного дерматита лица ассоциируется с увеличением количества дрожжеподобных грибов Malassezia и других микроорганизмов. У пациентов с жирным и воспалительным типом себорейного дерматита, среднетяжелым и тяжелым течением заболевания наблюдались значительные изменения в относительной численности (%) видов бактерий, а также их количестве в единице объема исследуемого материала. При этом наибольший удельный вес в составе микробиоты занимали бактерии рода Staphylococcus.
Нами было отмечено, что у пациентов с нарушением углеводного обмена в зоне поражения обнаружен чрезмерный рост отдельных микроорганизмов и создаются благоприятные условия для образования множества токсических метаболитов, которые по общепринятым представлениям, несомненно, оказывают повреждающее действие и на биологические мембраны клеток, и на функциональное состояние кожного барьера.
Ограничения исследования
Выборка больных с себорейным дерматитом лица у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа недостаточна по объему для получения убедительных данных. Определенным ограничением настоящего исследования может быть применение ранее топических антимикотических препаратов. Для получения окончательных выводов по данному вопросу следует провести дополнительное исследование с включением большего количества наблюдений.
Заключение
Изучение взаимоотношений между кожной микробиотой пациентов и наличием у них различных воспалительных и невоспалительных заболеваний кожи — важный шаг в понимании патогенеза заболеваний. Тяжесть течения и распространенные высыпания на коже лица у пациентов с себорейным дерматитом, метаболическим синдромом и с себорейным дерматитом, метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа взаимосвязаны с нарушениями микробиоты кожи лица. Рост микроорганизмов у пациентов с себорейным дерматитом и нарушением углеводного обмена ассоциирован с тяжелым течением себорейного дерматита лица. Полученные сведения о состоянии микробиоты кожи и присутствии того или иного вида Malassezia spp. у пациентов с себорейным дерматитом лица и нарушением углеводного обмена позволят разработать более эффективные терапевтические приемы в процессе лечения рецидивирующего себорейного дерматита. Дальнейшие молекулярно-генетические и фенотипические исследования микробиоты кожи дадут возможность лучше понять эту взаимосвязь и разработать эффективную тактику ведения таких больных.
About the authors
Kristina Yu. Molodykh
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
Author for correspondence.
Email: molodyhkristina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-5479-5652
SPIN-code: 9472-9640
Assistant of the Department
Russian Federation, 6–8 Lev Tolstoy street, 197022 Saint PetersburgElena R. Araviiskaia
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
Email: arelenar@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6378-8582
SPIN-code: 9094-9688
MD, Dr. Sci. (Med.), Professor
Russian Federation, 6–8 Lev Tolstoy street, 197022 Saint PetersburgEvgeny V. Sokolovskiy
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
Email: s40@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7610-6061
SPIN-code: 6807-7137
MD, Dr. Sci. (Med.), Professor
Russian Federation, 6–8 Lev Tolstoy street, 197022 Saint PetersburgLyudmila A. Kraeva
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
Email: lykraeva@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-9115-3250
MD, Dr. Sci. (Med.), Professor
Russian Federation, 6–8 Lev Tolstoy street, 197022 Saint PetersburgReferences
- An Q, Sun M, Qi RQ, Zhang L, Zhai JL, Hong YX, et al. High Staphylococcus epidermidis Colonization and Impaired Permeability Barrier in Facial Seborrheic Dermatitis. Chin Med J (Engl). 2017;130(14):1662–1669. doi: 10.4103/0366-6999.209895
- Abdillah A, Ranque S. MalaSelect: A Selective Culture Medium for Malassezia Species. J Fungi (Basel). 2021;7(10):824. doi: 10.3390/jof7100824
- Thayikkannu A.B., Kindo A.J., Veeraraghavan M. Malassezia-Can it be Ignored? Indian J Dermatol. 2015;60(4):332–339. doi: 10.4103/0019-5154.160475
- Karakadze MA, Hirt PA, Wikramanayake TC. The genetic basis of seborrhoeic dermatitis: a review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(4):529–536. doi: 10.1111/jdv.14704
- McCracken E, Monaghan M, Sreenivasan S. Pathophysiology of the metabolic syndrome. Clin Dermatol. 2018;3(1):14–20. doi: 10.1016/j.clindermatol.2017.09.004
- Полеско И.В. Спектрометрическое исследование состава микроорганизмов кишечника у больных себорейным дерматитом. Российский журнал кожных и венерических болезней. 2006;3:23–27. [Polesko IV. Spectrometric study of the composition of intestinal microorganisms in patients with seborrheic dermatitis. Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2006;3:23–27. (In Russ.)]
- Micali G, Lacarrubba F, Dall’Oglio F, Tedeschi A, Dirschka T. A new proposed severity score for seborrheic dermatitis of the face: Seborrheic Dermatitis Area and Severity Index (SEDASI). JAAD. 2017;76(6):18. doi: 10.1016/j.jaad.2017.04.088
- Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). 2002;25(106):3143–3421.
- Гвазава И.Г., Каримова М.В., Васильев А.В., Воротеляк Е.А. Сахарный диабет 2 типа: особенности патогенеза и экспериментальные модели на грызунах. Acta Naturae. 2022;14(3):57–68. [Gvazava IG, Karimova MV, Vasiliev AV, Vorotelyak EA. Type 2 Diabetes Mellitus: Pathogenic Features and Experimental Models in Rodents. Acta Naturae. 2022;14(3):57–68. (In Russ.)] doi: 10.32607/actanaturae.11751
- Аравийская Е.Р., Соколовский Е.В. Микробиом: новая эра в изучении здоровой и патологически измененной кожи. Вестник дерматологии и венерологии. 2016;3:102–109. [Araviiskaia ER, Sokolovskiy EV. Microbiome: a new era in normal and pathological changes skin studies. Vestnik dermatologii i venerologii. 2016;92(3):102–109. (In Russ.)] doi: 10.25208/0042-4609-2016-92-3-102-109
- Силина Л.В., Бибичева Т.В., Мятенко Н.И., Переверзева И.В. Структура, функции и значение микробиома кожи в норме и при патологических состояниях. РМЖ. 2018;8(2):92–96. [Silina LV, Bibicheva TV, Myatenko NI, Pereverzeva IV. Structure, function and value of the skin microbiome under normal and pathological conditions. RMJ. 2018;8(2):92–96. (In Russ.)]
- Дедов И.И., Ткачук В.А., Гусев Н.Б., Ширинский В.П., Воротников А.В., Кочегура Т.Н., и др. Сахарный диабет 2 типа и метаболический синдром: молекулярные механизмы, ключевые сигнальные пути и определение биомишеней для новых лекарственных средств. Сахарный диабет. 2018;21(5):364–375. [Dedov II, Tkachuk VA, Gusev NB, Shirinsky VP, Vorotnikov AV, Kochegura TN, et al. Type 2 diabetes and metabolic syndrome: identification of the molecular mechanisms, key signaling pathways and transcription factors aimed to reveal new therapeutical targets. Diabetes mellitus. 2018;21(5):364–375. (In Russ.)] doi: 10.14341/DM9730
- Корнишева В.Г., Могилева Е.Ю. Себорейный дерматит. Проблемы медицинской микологии. 2012;3:3–11. [Kornisheva VG, Mogileva EY. Seborrheic dermatitis. Problems of medical mycology. 2012;3:3–11. (In Russ.)]
- Полеско И.В., Малиновская В.В. Роль микрофлоры кожи и кишечника у больных себорейным дерматитом. Детские инфекции. 2005;4(1):39–44. [Polesko IV, Malinovskaya VV. The role of the microflora of the skin and intestines in patients with seborrheic dermatitis. Childhood infections. 2005;4(1):39–44. (In Russ.)]
- Park HK, Ha MH, Park SG, Kim MN, Kim BJ, Kim W. Characterization of the fungal microbiota (mycobiome) in healthy and dandruff afflicted human scalps. PLoS One. 2012;7(2):e32847. doi: 10.1371/journal.pone.0032847
- Захарова И.Н., Касьянова А.Н. Микробиом кожи: что нам известно сегодня? Медицинский совет. 2019;17:168–176. [Zakharova IN, Kas’yanova AN. Skin microbiome: what is known today? Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2019;17:168–176. (In Russ.)] doi: 10.21518/2079-701X-2019-17-168-176
Supplementary files