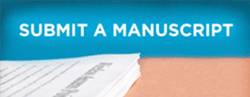Medical care for pemphigus patients in medical institutions specializing in dermatovenereology
- Authors: Karamova A.E.1, Chikin V.V.1, Novoselova E.Y.1
-
Affiliations:
- State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
- Issue: Vol 101, No 3 (2025)
- Pages: 48-59
- Section: ORIGINAL STUDIES
- Submitted: 04.04.2025
- Accepted: 25.06.2025
- Published: 04.08.2025
- URL: https://vestnikdv.ru/jour/article/view/16883
- DOI: https://doi.org/10.25208/vdv16883
- EDN: https://elibrary.ru/bgjnhx
- ID: 16883
Cite item
Full Text
Abstract
Background. Proper medical care for pemphigus patients using the necessary diagnostic and therapeutic methods can prevent severe disease progression and death.
Aim. To analyze diagnostic and therapeutic approaches for pemphigus in medical institutions specializing in dermatovenereology and assess their compliance with clinical guidelines.
Methods. A questionnaire was developed to collect data on the number of pemphigus patients treated in medical institutions specializing in dermatovenereology across the federal subjects of the Russian Federation in 2023 and on the diagnostic and therapeutic methods employed.
Results. Sixty eight medical institutions specializing in dermatovenereology in 66 (74.2%) federal subjects of the Russian Federation (RF) provided data on 1,480 pemphigus patients. Their diagnostic approaches (based on their own or other facilities) comprised: cytological examination of the smear print from the base of erosions (66 federal subjects); histopathological analysis of skin biopsies (46 federal subjects; 69.7%); ELISA blood test for anti-desmoglein type 1 and/or 3 autoantibodies level (29 federal subjects; 43.9%); immunofluorescence testing of skin biopsies (16 federal subjects; 24.2%), serological diagnostics by indirect immunofluorescence using monkey esophagus substrate to determine anti-desmoglein type 1 and/or 3 autoantibodies in blood (11 federal subjects; 16.7%). Systemic glucocorticoids were used to treat patients with pemphigus in 66 (100.0%) federal subjects of RF, though the medical institutions from 21 federal subjects (31.8%) restricted therapy to parenteral corticosteroids only.
Conclusion. The conducted study identified quality issues in specialized pemphigus care and suboptimal adherence to clinical guidelines.
Keywords
Full Text
Обоснование
Пузырчатка (L10.0 по МКБ-10) — группа аутоиммунных буллезных дерматозов, при которых патогенетическая роль принадлежит циркулирующим аутоантителам, направленным против антигенов системы десмосомального аппарата многослойного плоского эпителия (кожа, слизистые оболочки полости рта, пищевода и других органов) [1]. По данным официального государственного статистического наблюдения, за период с 2012 по 2014 г. средний показатель заболеваемости пузырчаткой населения в возрасте 18 лет и старше в Российской Федерации составил 2,1 случая на 100 тыс. населения; показатель распространенности — 5,5 на 100 тыс. населения [2–4]. С 2015 г. официальная статистическая информация о распространенности и заболеваемости пузырчаткой в Российской Федерации не формируется, поскольку данная нозологическая единица не включена ни в одну из форм федерального статистического наблюдения (ФФСН). Ранее, до внесения изменений приказом Федеральной службы государственной статистики от 21.07.2016 № 355, ФФСН № 12 позволяла регистрировать пациентов старше 18 лет с этим заболеванием, включая их диспансерное наблюдение, однако после исключения пузырчатки из указанной формы такая возможность была утрачена [5, 6].
До внедрения в практику кортикостероидов системного действия смертность больных пузырчаткой достигала 75%, но и в настоящее время пузырчатка остается потенциально летальным заболеванием [7]. Во Франции выживаемость пациентов с пузырчаткой в течение 1, 2 и 5 лет составила соответственно 92, 88 и 77% [8]. Согласно проведенным в Великобритании, Франции, Израиле и Тайване исследованиям, вероятность смерти у пациентов с пузырчаткой в 1,7–3,6 раза выше, чем у людей, сопоставимых с ними по возрасту и полу [8–13]. В связи с этим большое значение имеет надлежащее оказание больным пузырчаткой медицинской помощи, подразумевающей в первую очередь своевременную диагностику болезни и адекватное лечение. Значение ранней диагностики пузырчатки подчеркивается результатами исследования S. Kumar и соавт. (2017), показавших, что длительность заболевания, в первую очередь поражения полости рта, ассоциируется с неэффективностью терапии [14].
Диагностика пузырчатки — один из наиболее сложных вопросов современной дерматологии. Клинические проявления заболевания могут потребовать проведения дифференциальной диагностики с буллезным пемфигоидом, герпетиформным дерматитом Дюринга, хронической семейной доброкачественной пузырчаткой Хейли–Хейли, буллезной формой многоформной эритемы, афтозным стоматитом, токсическом эпидермальным некролизом, синдромом Лайелла [13–17]. В связи с этим возможны ошибки диагностики пузырчатки [19–21]. По данным И.В. Хамагановой и соавт. (2016), из 21 больного, находившихся под наблюдением с пузырчаткой, 7 (33,3%) были направлены для оказания медицинской помощи с другим диагнозом [22]. Это обусловливает необходимость использования при обследовании больных пузырчаткой не только клинико-анамнестических данных, но и лабораторных и патологоанатомических методов исследования [23, 25]. Согласно клиническим рекомендациям «Пузырчатка» (L10 ID: 369_2), одобренным научно-практическим советом Минздрава России в 2024 г., диагноз пузырчатки устанавливается на основании: анамнестических данных; физикального обследования, включая визуальное исследование кожных покровов и слизистых оболочек; цитологического исследования на акантолитические клетки со дна эрозий слизистых оболочек и/ или кожи; патолого-анатомического исследования биопсийного материала кожи из очагов поражения; патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала кожи с применением иммунофлюоресцентных методов и/или исследования сыворотки крови методом непрямой иммунофлюоресценции для выявления IgG- и IgA-аутоантител [1]. При этом существующие методы диагностики пузырчатки имеют свои преимущества и недостатки, и ни один из них в отдельности не обладает 100%-й чувствительностью и специфичностью.
Основной метод терапии больных пузырчаткой — длительное применение высоких доз системных кортикостероидов, которые назначаются перорально в суточной дозе не менее 1 мг/кг массы тела пациента (в виде монотерапии или в сочетании с иммунодепрессантами), затем их доза постепенно снижается с учетом состояния пациента, чтобы уменьшить вероятность развития и выраженность нежелательных явлений длительной кортикостероидной терапии [1]. При развитии рецидива доза кортикостероида должна быть повышена.
Даже при адекватной дозе кортикостероида терапия может быть недостаточно эффективной, и вероятность неэффективности лечения возрастает, если доза препарата недостаточна. В Иране были проведены два исследования эффективности терапии больных пузырчаткой, в которых применялись разные начальные дозы кортикостероида [25]. В одном исследовании терапия преднизолоном, назначавшимся в начальной суточной дозе 1 мг/кг массы тела пациента (60,21 ± 11,130 мг/ сут), через 4–6 недель была сочтена недостаточно эффективной у 46,8% пациентов [25]. В другом исследовании, в котором терапию начинали и проводили преднизоном в дозе 40 мг/сут, через 4 недели лечение было расценено как недостаточно эффективное у 75% пациентов [26]. Назначение кортикостероида в суточной дозе исходя из массы тела, непредсказуемость рецидивов, требующих повышения дозы, делают кортикостероидную терапию пузырчатки индивидуальной для каждого пациента и способствуют появлению ошибок в их терапии.
В связи с возможностью ошибок в диагностике пузырчатки и лечении больных этим потенциально летальным заболеванием актуально оценить качество оказания медицинской помощи больным пузырчаткой в Российской Федерации.
Цель исследования — проанализировать данные о применяемых методах диагностики и терапии больных пузырчаткой в медицинских организациях дерматовенерологического профиля и оценить их соответствие клиническим рекомендациям.
Методы
Дизайн исследования
Проведено одномоментное исследование.
Критерии соответствия
В исследование были включены данные о больных с установленным диагнозом «пузырчатка» обоего пола, любого возраста.
Условия проведения
Исследование выполнялось в отделе дерматологии ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России в рамках государственного задания № 056-00005-25-00 на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг. «Медицинское изделие для селективной иммуносорбции аутоантител к экстрацеллюлярным доменам десмоглеина 3 типа для терапии вульгарной пузырчатки» (протокол ЛЭК № 2 от 28 февраля 2023 г.).
Методы регистрации
Для проведения исследования была разработана анкета, содержащая вопросы о числе пациентов с пузырчаткой, обращавшихся в медицинские организации дерматовенерологического профиля, в том числе с вновь установленным диагнозом, в 2023 г., методах диагностики и лечения данной категории граждан.
Статистический анализ
Принципы расчета размера выборки. Размер выборки предварительно не рассчитывался.
Методы статистического анализа данных. Для представления изученных показателей использовали методы описательной статистики. Расчеты проводили с использованием программы Excel (пакет программ Microsoft Office).
Результаты
Оказание медицинской помощи населению Российской Федерации по профилю «дерматовенерология» в 2023 г. осуществлялось на базе 98 кожно-венерологических диспансеров, 8 центров специализированной медицинской помощи и 2977 кабинетов. Ответы на запросы были получены из 68 медицинских организаций дерматовенерологического профиля 66 (74,2%) субъектов РФ.
Согласно полученным данным, в 2023 г. в медицинские организации дерматовенерологического профиля обратилось 1480 пациентов с пузырчаткой: большинство — 1085 (73,3%) — с обыкновенной пузырчаткой (L10.0); 27 (1,8%) — с вегетирующей пузырчаткой (L10.1); 27 (1,8%) — с листовидной пузырчаткой (L10.2); 87 (5,9%) — с эритематозной пузырчаткой (L10.4); 185 (12,5%) — с другими пузырчатками (L10.8); 18 (1,2%) — с паранеопластической пузырчаткой; 51 (3,5%) пациент — с себорейной пузырчаткой. Диагноз впервые установлен у 340 (23,0%) пациентов: из них 258 (75,8%) — с обыкновенной пузырчаткой (L10.0); 6 (1,8%) — с вегетирующей пузырчаткой (L10.1); 7 (2,0%) — с листовидной пузырчаткой (L10.2); 15 (4,4%) — с эритематозной пузырчаткой (L10.4); 33 (9,7%) — с другими пузырчатками (L10.8); 7 (2,0%) — с паранеопластической пузырчаткой; 14 (4,3%) — с себорейной пузырчаткой (табл. 1).
Таблица 1. Число пациентов, обращавшихся в медицинские организации дерматовенерологического профиля в 2023 г.
Table 1. Number of patients who visited medical institutions specializing in dermatovenereology in 2023
Диагноз МКБ | Число пациентов, n (%) | |
Всего | Из них впервые выявленные | |
Обыкновенная пузырчатка (L10.0) | 1085 (73,3) | 258 (23,8) |
Вегетирующая пузырчатка (L10.1) | 27 (1,8) | 6 (22,2) |
Листовидная пузырчатка (L10.2) | 27 (1,8) | 7 (25,9) |
Эритематозная пузырчатка (L10.4) | 87 (5,9) | 15 (17,2) |
Другие пузырчатки (L10.8) | 185 (12,5) | 33 (17,8) |
Паранеопластическая пузырчатка | 18 (1,2) | 7 (38,9) |
Себорейная пузырчатка | 51/3,5 | 14 /27,5 |
Итого | 1480 | 340 (23,0) |
Информацию об условиях оказания медицинской помощи пациентам с пузырчаткой предоставили 66 (97,1%) медицинских профильных организаций, в которых на лечении находилось 1438 пациентов с пузырчаткой, из них 880 (61,2%) — только на амбулаторном лечении и 558 (38,8%) — на стационарном и амбулаторном лечении. Инвалидность в связи с пузырчаткой установлена у 72 (4,9%) пациентов. На момент анализа данных смерть по причине пузырчатки наступила у 5 (0,3%) пациентов.
Из общего числа пациентов с пузырчаткой у 72 (4,9%) пациентов установлена группа инвалидности по причине основного заболевания; у 516 (34,9%) группа инвалидности отсутствует; относительно 892 (60,2%) пациентов информация о медико-социальной экспертизе отсутствует.
Для оценки степени тяжести пузырчатки в 13 (19,1%) медицинских организациях использовали индексы PDAI и ABSIS. Только индекс PDAI применяли в 8 (11,8%) медицинских организациях, в 47 (69,1%) медицинских профильных организациях индексы PDAI и ABSIS не применяли. Критерии Mahajan не применялись ни в одной медицинской организации.
Методы диагностики
Лабораторные и патологоанатомические исследования, проводившиеся в целях диагностики пузырчатки, выполнялись как на базе медицинских организаций дерматовенерологического профиля, так и на базе иных организаций (рис. 1).
Рис. 1. Медицинские организации 66 субъектов РФ, в которых применяются методы диагностики пузырчатки, абс.
Fig. 1. Medical institutions of 66 federal subjects of RF using pemphigus diagnosis methods, abs.
Во всех медицинских организациях, предоставивших информацию об оказании медицинской помощи больным пузырчаткой, в диагностических целях проводили цитологическое исследование мазка-отпечатка на акантолитические клетки, причем в 55 (80,9%) из 68 медицинских организаций цитологический метод исследования был единственным использовавшимся для диагностики пузырчатки. Согласно полученным данным, из общего числа медицинских организаций (n = 68), предоставивших информацию, 66 (97,1%) медицинских профильных организаций из 64 (97,0%) субъектов РФ проводили цитологическое исследование мазка-отпечатка со дна эрозий на базе собственных лабораторий. Вместе с тем установлено, что данный вид исследования в 9 субъектах РФ проводился в республиканской, краевой или областной больнице; в 1 — в клинике медицинского вуза; в 2 — в коммерческой медицинской организации; в 3 — в иной медицинской организации; в 6 — в медицинской организации другого субъекта РФ. В 2 субъектах РФ цитологическое исследование на собственной базе не проводилось, но выполнялось на базе другой медицинской организации.
В 46 (67,6%) медицинских организациях дерматовенерологического профиля из 45 (68,2%) субъектов РФ для диагностики пузырчатки использовалось патологоанатомическое исследование биопсийного материала кожи. В 10 (14,7%) медицинских профильных организациях 10 (15,2%) субъектов РФ для диагностики пузырчатки патологоанатомическое исследование биоптатов кожи проводилось на базе собственных лабораторий; в 42 (63,6%) субъектах РФ — на базе других медицинских учреждений. Данный вид исследования в 11 субъектах РФ проводился в республиканской, краевой или областной больнице; в 3 — в клинике медицинского вуза; в 11 — в коммерческой медицинской организации; в 21 — в иной медицинской организации; в 10 — в медицинской организации другого субъекта РФ. При этом в 36 субъектах РФ патологоанатомическое исследование биоптатов кожи выполнялось только на базе других медицинских организаций, а в 20 субъектах РФ — как на своей, так на другой базе. В 22 (32,4%) профильных медицинских организациях 21 (31,8%) субъекта РФ патологоанатомическое исследование биопсийного материала кожи не проводилось.
Определение уровня аутоантител к десмоглеину 1 и/или 3 типа в крови методом иммуноферментного анализа проводили пациентам в 29 (43,9%) субъектах РФ. Самостоятельно на базе своих лабораторий оно проводилось в 2 (3,0%) субъектах РФ; в 27 (40,9%) субъектах РФ это исследование выполняли на базе других медицинских организаций. Данный вид исследования в 1 субъекте РФ проводился в областной больнице; в 3 — в клинике медицинского вуза; в 22 — в коммерческой медицинской организации; в 1 — в иной медицинской организации; в 3 — в медицинской организации другого субъекта РФ. В 37 (56,1%) субъектах РФ определение уровня аутоантител к десмоглеину 1 и/или 3 типа в крови методом иммуноферментного анализа не проводилось.
Серологическая диагностика пузырчатки с использованием ткани пищевода обезьян для определения содержания аутоантител к десмоглеину 1 и 3 типа в крови методом непрямой иммунофлюоресценции проводилась в 11 (16,7%) субъектах РФ, но на собственной базе выполнялась в 1 (1,5%) медицинской организации; в 10 (15,2%) субъектах РФ данный вид исследования проводился на базе других медицинских организаций. В 1 субъекте РФ оно проводилось в областной больнице; в 6 — в коммерческой медицинской организации; в 2 — в иной медицинской организации; в 3 — в медицинской организации другого субъекта РФ. Серологическая диагностика пузырчатки методом непрямой иммунофлюоресценции была недоступна в 55 (83,3%) субъектах РФ, а собственная база для проведения этих исследований отсутствует в 67 (98,5%) медицинских организациях дерматовенерологического профиля.
Патологоанатомическое исследование биопсийного материала кожи с применением иммунофлюоресцентных методов (реакции иммунофлюоресценции) выполнялось в 16 (24,2%) субъектах РФ. Вместе с тем установлено, что медицинские организации дерматовенерологического профиля, предоставившие информацию, исследования этим методом самостоятельно на базе своих лабораторий не проводили. Для проведения исследований биоптатов кожи с применением иммунофлюоресцентных методов 6 медицинских организаций дерматовенерологического профиля направляли биоптаты кожи в республиканскую, краевую или областную больницу; 1 медицинская организация — в клинику медицинского вуза; 4 — в коммерческую медицинскую организацию; 5 — в иную медицинскую организацию; 5 — в медицинскую организацию другого субъекта РФ.
Установлено, что сразу два вида исследования (цитологическое исследование мазка-отпечатка со дна эрозий на акантолитические клетки и патологоанатомическое исследование биопсийного материала кожи) проводили 9 (13,2%) медицинских организаций; цитологическое исследование мазка-отпечатка со дна эрозий на акантолитические клетки и определение уровня аутоантител к десмоглеину 1 и/или 3 типа в крови методом иммуноферментного анализа — 1 (1,5%) медицинская организация. Три вида исследования (цитологическое исследование мазка-отпечатка со дна эрозий на акантолитические клетки, определение уровня аутоантител к десмоглеину 1 и/или 3 типа в крови методом иммуноферментного анализа и серологическая диагностика с использованием ткани пищевода обезьян для определения содержания аутоантител к десмоглеину 1 и 3 типа в крови методом непрямой иммунофлюоресценции) проводились в 1 (1,5%) медицинской организации, 1 медицинская организация не проводит лабораторные исследования для диагностики пузырчатки.
Таким образом, из общего числа медицинских организаций дерматовенерологического профиля, предоставивших информацию, 68 (100,0%) медицинских организаций в своих лабораториях для диагностики пузырчатки применяли цитологическое исследование мазка-отпечатка со дна эрозий на акантолитические клетки; 46 (67,6%) организаций из 45 (68,2%) субъектов РФ — патологоанатомическое исследование био-псийного материала кожи на своей или другой базе. В 29 (43,9%) субъектах РФ на своей или другой базе проводили определение уровня аутоантител к десмоглеину 1 и/или 3 типа в крови методом иммуноферментного анализа и в 11 (16,7%) субъектах РФ — серологическую диагностику с использованием ткани пищевода обезьян для определения содержания аутоантител к десмоглеину 1 и 3 типа в крови методом непрямой иммунофлюоресценции. Патологоанатомическое исследование биопсийного материала кожи с применением иммунофлюоресцентных методов (реакции иммунофлюоресценции) в медицинских организациях дерматовенерологического профиля, предоставивших информацию, было доступно пациентам в 16 (24,2%) субъектах РФ из 66, хотя проводилось оно только на базе других медицинских организаций.
Вместе с тем на собственной базе проводили цитологические исследования 66 (97,1%) медицинских организаций дерматовенерологического профиля из 64 (97,0%) субъектов РФ; патолого-анатомическое исследование биопсийного материала кожи — лишь в 10 (14,7%) из 10 (15,2%) субъектов РФ; определение уровня аутоантител к десмоглеинам 1 и/или 3 типа в крови методом иммуноферментного анализа — в 2 (2,9%) из 2 (3,0%) субъектов РФ; определение уровня аутоантител к десмоглеинам 1 и/или 3 типа в крови методом непрямой иммунофлюоресценции — в 1 (1,5%) из 1 (1,5%) субъекта РФ. Патологоанатомические исследования биоптатов кожи с применением реакции иммунофлюоресценции не проводилось на собственной базе ни в одной из 68 профильных медицинских организаций (рис. 2). В 1 организации не проводилось ни одного лабораторного исследования для диагностики пузырчатки на базе своей лаборатории.
Рис. 2. Число медицинских организаций дерматовенерологического профиля в 66 субъектах РФ, выполняющих лабораторную и патологоанатомическую диагностику пузырчатки
Fig. 2. The number of medical institutions specializing in dermatovenereology using laboratory and pathoanatomical diagnostics of pemphigus in 66 federal subjects of RF
Лечение
Для лечения пациентов с пузырчаткой кортикостероиды системного действия применяли перорально (гидрокортизон — в 4 (5,9%) медицинских организациях дерматовенерологического профиля; дексаметазон — в 42 (61,8%); кортизон — в 2 (2,9%); метилпреднизолон — в 43 (63,2%); преднизолон — в 66 (97,1%), триамцинолон — в 6 (8,8%)) и парентерально (бетаметазон — в 29 (42,6%) медицинских организациях дерматовенерологического профиля; гидрокортизон — в 1 (1,5%); дексаметазон — в 54 (79,4%); метилпреднизолон — в 4 (4,4%); преднизолон — в 64 (94,1%); триамцинолон — в 2 (2,9%)) (рис. 3).
Рис. 3. Частота назначения кортикостероидов системного действия больным пузырчаткой по данным из 67 медицинских профильных организаций, %
Fig. 3. Frequency of systemic corticosteroid administration in patients with pemphigus according to data collected from 67 specialized medical institutions, %
В 47 (69,1%) медицинских организациях дерматовенерологического профиля применяли метотрексат; в 16 (23,5%) — азатиоприн; в 12 (17,6%) — циклоспорин; в 3 (4,4%) — ритуксимаб; в 3 (4,4%) — внутривенное введение иммуноглобулинов; в 1 (1,5%) медицинской организации использовали микофенолата мофетил (микофеноловую кислоту) (рис. 4).
Рис. 4. Частота назначения иммунодепрессантов и эфферентных методов терапии больным пузырчаткой по данным из 67 медицинских профильных организаций, %
Fig. 4. Frequency of immunosuppressants and efferent therapy in pemphigus patients, according to data collected from 67 specialized medical institutions, %
В качестве иной терапии для лечения пациентов с пузырчаткой в 13 (19,1%) медицинских организациях назначали плазмаферез и в 1 — фотоферез.
Информацию о терапии, применяемой для пациентов с впервые установленным диагнозом пузырчатки, предоставили 67 (98,5%) медицинских организаций дерматовенерологического профиля, в которых использовали кортикостероиды системного действия. При этом начальная доза, назначаемая пациентам в медицинских организациях, варьировала от 0,5 до 5,0 мг/кг массы тела.
Из 67 профильных медицинских организаций в 34 (50,7%) кортикостероиды системного действия применяли перорально; в 33 (49,2%) — перорально в комбинации с парентеральным введением системных кортикостероидов пролонгированного действия (бетаметазон — 1 или 2 мл внутримышечно); в 44 (65,7%) — перорально в комбинации с парентеральным введением кортикостероидов в дозе не более 90 мг по преднизолоновому эквиваленту (преднизолон — 30, 60 или 90 мг); в 8 (11,9%) — перорально комбинации с пульс-терапией кортикостероидами внутривенно (в дозе от 500 мг и больше по преднизолоновому эквиваленту); в 35 (52,2%) — перорально в комбинации с иммунодепрессантами (метотрексатом, циклоспорином, азатиоприном и др.); в 21 (31,3%) медицинской организации кортикостероиды применялись парентерально (внутримышечно или внутривенно) (рис. 5).
Рис. 5. Частота назначения различных методов терапии больным пузырчаткой по данным из 67 медицинских профильных организаций, %
Fig. 5. Frequency of administration of various therapies in pemphigus patients, according to data collected from 67 specialized medical institutions, %
В одной профильной организации пациентам с впервые выявленной пузырчаткой назначали ритуксимаб как в виде монотерапии, так и в комбинации с кортикостероидами системного действия, в другой — ритуксимаб в виде монотерапии. Еще в одной медицинской организации назначали ритуксимаб в комбинации с кортикостероидами системного действия.
Кортикостероидные препараты для наружного применения получали пациенты в 3 профильных медицинских организациях, в 1 медицинской организации дерматовенерологического профиля пациентам с впервые установленным диагнозом пузырчатки проводили плазмаферез.
Информацию о тактике ведения пациентов с пузырчаткой в случае недостаточной эффективности или ухудшения состояния на фоне проводимой терапии предоставили 67 (98,5%) медицинских организаций дерматовенерологического профиля, из них в 5 (7,5%) случаи с недостаточной эффективностью ранее проводившегося лечения или с ухудшением состояния пациентов отсутствовали. В 35 (52,2%) медицинских организациях в случае недостаточной эффективности или ухудшения состояния на фоне проводимой терапии пациентам с пузырчаткой увеличивали дозу кортикостероида, принимаемого пер-орально, без назначения другой терапии; в 26 (38,8%) увеличивалась доза кортикостероида, принимаемого перорально, с дополнительным применением кортикостероида системного пролонгированного действия парентерально (бетаметазон — 1 или 2 мл внутримышечно); в 33 (49,2%) увеличивалась доза кортикостероида, принимаемого перорально, с дополнительным применением кортикостероида системного действия парентерально в дозе не более 90 мг по преднизолоновому эквиваленту (например, преднизолон — 30, 60 или 90 мг); в 6 (8,9%) увеличивалась доза кортикостероида, принимаемого перорально, с дополнительным применением пульс-терапии кортикостероидом системного действия внутривенно в дозе от 500 мг и более по преднизолоновому эквиваленту; в 29 (43,3%) увеличивалась доза глюкокортикостероида, принимаемого перорально, с дополнительным применением иммунодепрессанта или иной терапии; в 28 (41,8%) доза кортикостероида, принимаемого перорально, не менялась, но дополнительно назначался кортикостероид системного пролонгированного действия парентерально (бетаметазон — 1 или 2 мл внутримышечно); в 31 (46,3%) доза кортикостероида, принимаемого перорально, не менялась, но дополнительно назначался кортикостероид системного действия парентерально в дозе не более 90 мг по преднизолоновому эквиваленту (например, преднизолон — 30, 60 или 90 мг); в 7 (10,4%) доза кортикостероида, принимаемого перорально, не менялась, но дополнительно назначалась пульс-терапия кортикостероидом системного действия внутривенно в дозе от 500 мг и более по преднизолоновому эквиваленту; в 37 (55,2%) медицинских профильных организациях доза кортикостероида, принимаемого перорально, не менялась, но дополнительно назначались иммунодепрессант или иная терапия.
Во всех медицинских организациях дерматовенерологического профиля пациентам с пузырчаткой в процессе лечения проводили визуальный осмотр кожных покровов и слизистых оболочек.
На момент анализа данных из общего числа пациентов с пузырчаткой 25 (1,7%) пациентов скончались: из них 5 (20,0%) — по причине основного заболевания; 20 (80,0%) — по причинам, не связанным с пузырчаткой.
Таким образом, полученные в результате проведенного исследования данные свидетельствуют о недостаточном соответствии оказываемой медицинской помощи клиническим рекомендациям «Пузырчатка» Российского общества дерматовенерологов и косметологов [1]. Выявленное несоответствие касается как диагностики заболевания, так и лечения пациентов с пузырчаткой.
Обсуждение
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медицинская помощь оказывается на основе клинических рекомендаций.
Клинический диагноз пузырчатки должен быть подтвержден лабораторными и патологоанатомическими методами исследования. Тем не менее каждый известный диагностический метод исследования характеризуется своей чувствительностью и специфичностью и, соответственно, своей прогностической ценностью — вероятностью наличия заболевания при определенном (положительном или отрицательном) результате диагностического теста [27].
Во всех (100,0%) медицинских организациях субъектов РФ для диагностики пузырчатки использовали цитологическое исследование мазка-отпечатка со дня эрозии на акантолитические клетки. Более того, в 55 (80,9%) из 68 медицинских организаций цитологический метод исследования был единственным использовавшимся для диагностики пузырчатки. Это метод, чувствительность которого в диагностике пузырчатке, по данным M. Durdu и соавт. (2008), может достигать 100%, тем не менее, по их же данным, спе-цифичность этого метода невысока — 43,4% [28]. Акантолитические клетки могут быть выявлены не только при пузырчатке, но и при других заболеваниях, например при герпетической инфекции кожи, буллезном импетиго, доброкачественной семейной пузырчатке Хейли–Хейли, болезни Дарье [28, 29]. Кроме того, выявление акантолитических клеток цитологическим методом достигает 100% при исследовании старых пузырей, которые при пузырчатке обнаруживаются редко, так как склонны быстро вскрываться, а при исследовании новых пузырей акантолитические клетки выявляются в 86% случаев [30]. При этом, по данным А.И. Булгаковой и соавт. (2018), акантолитические клетки были обнаружены только у 47% пациентов [31].
Возможны ошибки при использовании цитологического исследования для диагностики пузырчатки. Например, акантолитические клетки могут быть приняты за атипичные клетки новообразований кожи. Описан пациент с вегетирующей пузырчаткой, у которого первоначально по результатам цитологических исследований имевшиеся высыпания были расценены как три очага базально-клеточного рака, четыре очага плоскоклеточного рака и один очаг метатипического рака, и только дополнительное исследование крови методом иммуноферментного анализа, выявившее антитела к десмоглеину 3 типа, в совокупности с клинической оценкой поражения кожи и результатами цитологического исследования позволило установить диагноз вегетирующей пузырчатки [32].
Высокой чувствительностью и большей по сравнению с цитологическим исследованием специфичностью обладает в диагностике пузырчатки патолого-анатомическое исследование биопсийного материала кожи с окраской гистологического препарата гематоксилином-эозином. Отмечается, что для диагностики заболеваний с внутриэпидермальным расположением пузырей чувствительность этого метода составляет 80%, а специфичность — 97% [33]. Положительная прогностическая ценность гистологического исследования в диагностике пузырчатки составляет 89%, отрицательная — 95% [33]. Тем самым вероятность наличия пузырчатки у пациента при выявлении соответствующих патологических признаков в гистологическом препарате составляет 89%, а вероятность того, что поражения кожи у пациента не являются пузырчаткой при отрицательном результате исследования, составляет 95%, демонстрируя при этом, что у 5% пациентов с пузырчаткой может быть отрицательный результат гистологического исследования. Вероятность выявления признаков пузырчатки при гистологическом исследовании биоптата кожи снижается, если у пациента отсутствуют свежие, только появившиеся пузыри и для исследования был получен биопсийный материал кожи с пузырем, существующим довольно длительное время, или же для гистологического исследования удалось получить только материал, содержащий эрозию. Несмотря на достаточно высокую чувствительность и специфичность метода, патологоанатомическое исследование биопсийного материала кожи в 22 (32,4%) профильных медицинских организациях 21 (31,8%) субъекта РФ для диагностики пузырчатки не проводится.
Высокоспецифичным методом диагностики пузырчатки является патологоанатомическое исследование биоптатов кожи с применением иммунофлюоресцентных методов [34]. Его чувствительность составляет 94,4%, а положительная прогностическая ценность — 90%, но вместе с тем он характеризуется низкой чувствительностью (36,4%) и низкой отрицательной прогностической ценностью (14,3%) [35]. Эти данные означают, что положительный результат гистологического исследования с применением иммунофлюоресцентных методов с большой долей вероятности подтверждает диагноз пузырчатки, а отрицательный результат исследования с отсутствием свечения антител в эпидермисе не исключает этот диагноз. Вместе с тем патологоанатомическое исследование биоптатов кожи с применением иммунофлюоресцентных методов было доступно только в 16 (24,2%) субъектах РФ из 66, причем реакция иммунофлюоресценции на базе своих лабораторий не проводится ни в одной медицинской организации дерматовенерологического профиля.
Определение уровня антител в крови к десмоглеинам 1 и 3 типа с использованием иммуноферментного анализа — высокочувствительный и высокоспецифичный метод диагностики пузырчатки. Чувствительность метода при определении антител к десмоглеину 1 типа составляет 96–100%, специфичность — 96–100%, а при определении антител к десмоглеину 3 типа чувствительность и специфичность составляют соответственно 85–100 и 96–100% [36]. Но используется этот высокочувствительный и высокоспецифичный метод диагностики пузырчатки медицинскими организациями лишь 29 (43,9%) субъектов РФ, и только в 2 (2,9%) профильных медицинских организациях это исследование проводится на собственной базе.
Учитывая потенциальную летальность пузырчатки, значимым является несоответствие клиническим рекомендациям при проведении терапии пациентов. Выявлено, что в 21 (31,3%) медицинской организации дерматовенерологического профиля назначались кортикостероиды системного действия только парентерально, что не соответствует клиническим рекомендациям.
Полученные в результате анкетирования данные 2023 г. о числе пациентов пузырчаткой значительно превышают сведения, внесенные в регистр больных пузырчаткой Российского общества дерматовенерологов и косметологов, который содержит информацию о 298 пациентах с пузырчаткой. В 2023 г. 13 организациями дерматовенерологического профиля в регистр были внесены данные о 49 пациентах, в то время как при анкетировании получены данные о 10 148 пациентах, что свидетельствует о недостаточной активности субъектов РФ в ведении регистра.
Ограничения исследования
Ограничение исследование связано с неполнотой отклика медицинских организаций дерматовенерологического профиля. Отсутствуют ответы из 23 (25,8%) субъектов РФ.
Заключение
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии очевидных проблем, связанных с качеством оказания специализированной медицинской помощи больным пузырчаткой, и недостаточном соответствии оказываемой медицинской помощи больным пузырчаткой клиническим рекомендациям, а также недостаточной активности субъектов РФ в ведении регистра.
Одним из путей улучшения качества оказания помощи и устранения несоответствий клиническим рекомендациями является повышение квалификации врачей-дерматовенерологов, для чего требуется разработка и реализация циклов повышения их квалификации по вопросам ведения профильных больных в соответствии с требованиями клинических рекомендаций на базе кафедр или факультетов последипломной подготовки специалистов.
About the authors
Arfenya E. Karamova
State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
Author for correspondence.
Email: karamova@cnikvi.ru
ORCID iD: 0000-0003-3805-8489
SPIN-code: 3604-6491
MD, Cand. Sci. (Med.), Assistant Professor
Russian Federation, MoscowVadim V. Chikin
State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
Email: chikin@cnikvi.ru
ORCID iD: 0000-0002-9688-2727
SPIN-code: 3385-4723
MD, Dr. Sci. (Med.)
Russian Federation, MoscowElena Yu. Novoselova
State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
Email: novoselova@cnikvi.ru
ORCID iD: 0000-0003-1907-2592
SPIN-code: 6955-5842
Dermatovenerologist
Russian Federation, MoscowReferences
- Клинические рекомендации «Пузырчатка». URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/369_2 (accessed: 25.03.2025).
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и болезнями кожи за 2012–2013 годы: cтатистические материалы. М.: Минздрав России; 2014. С. 229–237. [Resources and activities of medical organizations of a dermato-venereal profile. The incidence of sexually transmitted infections, infectious skin diseases and skin diseases in 2012–2013 (Statistical material). Moscow: Ministry of Health of the Russian Federation; 2014. P. 229–237. (In Russ.)]
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и болезнями кожи за 2013–2014 годы: статистические материалы. М.: Минздрав России; 2015. С. 229–237. [Resources and activities of medical organizations of a dermato-venereal profile. The incidence of sexually transmitted infections, infectious skin diseases and skin diseases in 2013–2014 (Statistical material). Moscow: Ministry of Health of the Russian Federation; 2015. P. 229–237. (In Russ.)]
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и болезнями кожи за 2014–2015 годы: статистические материалы. М.: Минздрав России; 2016. С. 229–237. [Resources and activities of medical organizations of a dermato-venereal profile. The incidence of sexually transmitted infections, infectious skin diseases and skin diseases in 2014–2015 (Statistical material). Moscow: Ministry of Health of the Russian Federation; 2016. P. 229–237. (In Russ.)]
- Приказ Федеральной службы государственной статистики от 27.11.2015 № 591 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения». URL: https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209329&dst=100019&field=134&rnd=5h48Cw#xJspSoUojp3Aj59p1
- Приказ Федеральной службы государственной статистики от 21.07.2016 № 355 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья». URL: https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202418&dst=100007&field=134&rnd=5h48Cw#rstpSoUpHVjE9wX8
- Bystryn JC, Steinman NM. The adjuvant therapy of pemphigus. An update. Arch Dermatol. 1996;132(2):203–212. doi: 10.1001/archderm.1996.03890260105016
- Jelti L, Cordel N, Gillibert A, Lacour JP, Uthurriague C, Doutre MS, et al. Incidence and mortality of pemphigus in France. J Invest Dermatol. 2019;139(2):469–473. doi: 10.1016/j.jid.2018.07.042
- Langan SM, Smeeth L, Hubbard R, Fleming KM, Smith CJ, West J. Bullous pemphigoid and pemphigus vulgaris — incidence and mortality in the UK: population based cohort study. BMJ. 2008;337(7662):a180. doi: 10.1136/bmj.a180
- Huang YH, Kuo CF, Chen YH, Yang YW. Incidence, mortality, and causes of death of patients with pemphigus in Taiwan: a nationwide population-based study. J Invest Dermatol. 2012;132(1):92–97. doi: 10.1038/jid.2011.249
- Kridin K, Sagi SZ, Bergman R. Mortality and cause of death in patients with pemphigus. Acta Derm Venereol. 2017;97(5):607–611. doi: 10.2340/00015555-2611
- Chiu HY, Chang CJ, Lin YJ, Tsai TF. National trends in incidence, mortality, hospitalizations, and expenditures for pemphigus in Taiwan. J Dermatol Sci. 2020;99(3):203–208. doi: 10.1016/j.jdermsci.2020.08.002
- Kridin K, Schmidt E. Epidemiology of pemphigus. JID Innov. 2021;1(1):100004. doi: 10.1016/j.xjidi.2021.100004
- Kumar S, De D, Handa S, Ratho RK, Bhandari S, Pal A, et al. Identification of factors associated with treatment refractoriness of oral lesions in pemphigus vulgaris. Br J Dermatol. 2017;177(6):1583–1589. doi: 10.1111/bjd.15658
- Дифференциальная диагностика кожных болезней / под ред. Б.А. Беренбейна, А.А. Студницына. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина; 1989. 672 с. [Differentsial΄naya diagnostika kozhnykh bolezney / pod red. B.A. Berenbeyna, A.A. Studnitsyna. 2-e izd., pererab. i dop. Moskva: Meditsina; 1989. 672 s. (In Russ.)]
- Самцов А.В., Белоусова И.Э. Буллезные дерматозы. СПб.; Изд.-полиграф. компания «КОСТА»; 2012. 144 с. [Samtsov AV, Belousova IE. Bulleznyye dermatozy. Sankt-Peterburg: Izdatel΄sko-poligraficheskaya kompaniya “KOSTA”; 2012. 144 s. (In Russ.)]
- Кубанов А.А., Знаменская Л.Ф., Абрамова Т.В. Дифференциальная диагностика пузырных дерматозов. Вестник дерматологии и венерологии. 2016;92(6):43–56. [Kubanov AA, Znamenskaya LF, Abramova TV. Differential diagnostics of bullous dermatoses. Vestnik Dermatologii i Venerologii 2016;92(6):43–56. (In Russ.)] doi: 10.25208/0042-4609-2016-92-6-43-56
- Знаменская Л.Ф., Шарапова К.Г. Себорейная (эритематозная) пузырчатка, ошибки в диагностике. Вестник дерматологии и венерологии. 2008;84(4):73–75. [Znamenskaya LF, Sharapova KG. Seborrhea (erythematous) pemphigus, complexities of diagnostics and therapy. Vestnik dermatologii i venerologii. 2008;84(4):73–75. (In Russ.)]
- Сердюкова Е.А., Родин А.Ю., Еремина Г.В. Случай ошибки в диагностике акантолитической пузырчатки. Российский журнал кожных и венерических болезней. 2015;18(4):41–44. [Serdyukova EA, Rodin AYu, Eremina GV. The case of an error in the diagnosis of acantholytic pemphigus. Rossiyskiy zhurnal kozhnykh i venericheskikh bolezney. 2015;18(4):41–44. (In Russ.)]
- Хамаганова И.В., Маляренко Е.Н., Денисова Е.В., Воронцова И.В., Плиева К.Т. Ошибка в диагностике вульгарной пузырчатки: клинический случай. Pоссийский журнал кожных и венерических болезней. 2017;20(1):30–33. [Khamaganova IV, Malyarenko EN, Denisova EV, Vorontsova IV, Plieva CT. Mistakes of diagnostics in pemphigus vulgaris: case report. Russian Journal of Skin and Venereal Diseases (Rossiyskii Zhurnal Kozhnykh i Venericheskikh Boleznei). 2017;20(1):30–33. (In Russ.)] doi: 10.18821/1560-9588-2017-20-1-30-33
- Мкртычян А.С. Случай поздней диагностики себорейной пузырчатки. Южно-Уральский медицинский журнал. 2023;4:93–99. [Mkrtychian AS. Yuzhno-Ural΄skiy Meditsinskiy Zhurnal. A case of late diagnosis of seborrheic pemphigus. 2023;4:93–99. (In Russ.)]
- Хамаганова И.В., Маляренко Е.Н., Васильева А.Ю., Новосельцев М.В., Денисова Е.В., Моднова А.Г., и др. Ошибки в диагностике вульгарной пузырчатки. Проблемы современной науки и образования. 2016;8(50):149–151. [Khamaganova IV, Malyarenko EN, Vasil’eva AYu, Novoseltsev MV, Denisova EV, Modnova AG, et al. Mistakes in diagnostics of pemphigus vulgaris. Problems of modern science and education (Problemy sovremennoy nauki i obrazovaniya). 2016;8(50):149–151. (In Russ.)]
- Дрождина М.Б., Бобро В.А., Сенникова Ю.А. Актуальные подходы к диагностике аутоиммунных пузырных дерматозов. Вестник дерматологии и венерологии 2021;97(1):16–26. [Drozhdina MB, Bobro VA, Sennikova YuA. Current approaches to the diagnosis of autoimmune bullous dermatoses. Vestnik Dermatologii i Venerologii. 2021;97(1):16–26. (In Russ.)] doi: 10.25208/vdv1185
- Позднякова О.Н., Немчанинова О.Б., Соколовская А.В. Трудности дифференциальной диагностики акантолитической пузырчатки: клинический случай. Фарматека. 2022;29(8):16–119. [Pozdnyakova ON, Nemchaninova OB, Sokolovskaya AV. Difficulties in the differential diagnosis of acantholytic pemphigus: A clinical case. Pharmateca. 2022;29(8):116–119. (In Russ.)] doi: 10.18565/pharmateca.2022.8.116-119
- Davarmanesh M, Zahed M, Sookhakian A, Jehbez S. Oral pemphigus vulgaris treatment with corticosteroids and azathioprine: A long-term study in Shiraz, Iran. Evid Based Complement Alternat Med. 2022;2022:7583691. doi: 10.1155/2022/7583691
- Azizi A, Lawaf S. The management of oral pemphigus vulgaris with systemic corticosteroid and dapsone. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2008;2(1):33–37. doi: 10.5681/joddd.2008.007
- Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины: пер. с англ. М.: Медиа Сфера; 1998. 352 с. [Fletcher R., Fletcher S., Vagner E. Klinicheskaya epidemiologiya. Osnovy dokazatel΄noy meditsiny. Per. s angl. Moskva: Media Sfera; 1998. 352 s. (In Russ.)].
- Durdu M, Baba M, Seçkin D. The value of Tzanck smear test in diagnosis of erosive, vesicular, bullous, and pustular skin lesions. J Am Acad Dermatol. 2008;59(6):958–964. doi: 10.1016/j.jaad.2008.07.059
- Eryılmaz A, Durdu M, Baba M, Yıldırım FE. Diagnostic reliability of the Tzanck smear in dermatologic diseases. Int J Dermatol. 2014;53(2):178–186. doi: 10.1111/j.1365-4632.2012.05662.x
- Mokhtari M, Rasolmali R, Kumar PV. Pemphigus vulgaris of skin: cytological findings and pitfalls. Acta Cytol. 2012;56(3):310–314. doi: 10.1159/000333832
- Булгакова А.И., Хисматуллина З.Р., Хамзина Г.Р., Дюмеев Р.М. Результаты исследования пациентов с пузырчаткой в Республике Башкортостан. Проблемы стоматологии. 2018;14(1):11–14. [Bulgakova AI, Khismatullina ZR, Khamzina GR, Duymeev RM. Results of observation of patients with pemphigus in the Republic of Bashkortostan. Actual problems in dentistry. 2018;14(1):11–14. (In Russ.)] doi: 10.24411/2077-7566-2018-00002
- Базаев В.Т., Цебоева М.Б., Царуева М.С., Джанаев В.Ф. Вегетирующая пузырчатка, имитирующая рак кожи. Российский журнал кожных и венерических болезней. 2017;20(3):146–150. [Bazaev VT, Tseboeva MB, Tsarueva MS, Dzhanaev VF. Pemphigus vegetans imitating skin cancer. Russian Journal of Skin and Venereal Diseases (Rossiyskii Zhurnal Kozhnykh i Venericheskikh Boleznei). 2017;20(3):146–150. (In Russ.)] doi: 10.18821/1560-9588-2017-20-3-146-150
- Tjarks BJ, Billings SD, Ko JS. Efficacy of triaging direct immunofluorescence in intraepidermal bullous dermatoses. Am J Dermatopathol. 2018;40(1):24–29. doi: 10.1097/DAD.0000000000000889
- Kim RH, Brinster NK. Practical direct immunofluorescence. Am J Dermatopathol. 2020;42(2):75–85. doi: 10.1097/DAD.0000000000001516
- Buch AC, Kumar H, Panicker N, Misal S, Sharma Y, Gore CR. A Cross-sectional study of direct immunofluorescence in the diagnosis of immunobullous dermatoses. Indian J Dermatol. 2014;59(4):364–368. doi: 10.4103/0019-5154.135488
- Saschenbrecker S, Karl I, Komorowski L, Probst C, Dähnrich C, Fechner K, et al. Serological diagnosis of autoimmune bullous skin diseases. Front Immunol. 2019;10:1974. doi: 10.3389/fimmu.2019.01974
Supplementary files