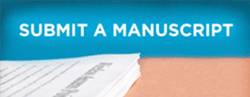Experimental modeling of congenital epidermolysis bullosa — a tool for studying the pathogenesis and gene therapy targets of the disease
- Authors: Karamova A.E.1, Girko E.V.1, Aulova K.M.1, Plahova X.I.1
-
Affiliations:
- State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
- Issue: Vol 101, No 4 (2025)
- Pages: 27-39
- Section: REVIEWS
- Submitted: 19.06.2025
- Accepted: 06.08.2025
- Published: 21.08.2025
- URL: https://vestnikdv.ru/jour/article/view/16916
- DOI: https://doi.org/10.25208/vdv16916
- EDN: https://elibrary.ru/ydlayv
- ID: 16916
Cite item
Full Text
Abstract
Epidermolysis bullosa (EB) is a phenotypically and genetically heterogeneous group of hereditary dermatoses characterized by the formation of blisters on the skin and/or mucous membranes with minimal mechanical exposure. The study of the pathogenesis and development of therapeutic strategies for EB present significant challenges. In this regard, experimental animal models of EB, especially using laboratory mice, are important in modern science. Genetically modified lines reproducing key mutations in the corresponding genes (Krt5, Krt14, Plec, Lama3, Lamb3, Lamc2, Col7a1, etc.) successfully mimic phenotypic manifestations characteristic of human forms of EB and allow us to study the stages of the pathological process development, as well as to study the molecular basis of the disease and initiate the development of new effective methods of treatment. The advent of genome editing using CRISPR-Cas9, which allows targeted mutations in genes of interest, has simplified the disease modeling process. Further improvement of models is necessary for effective translation of experimental data into clinical practice.
Keywords
Full Text
Введение
Врожденный буллезный эпидермолиз (ВБЭ) — это фенотипически и генетически гетерогенная группа наследственных дерматозов, характеризующаяся образованием пузырей на коже и/или слизистых оболочках при минимальном механическом воздействии [1]. На сегодняшний день в 16 генах структурных белков кожи выявлено более 1000 мутаций, способных приводить к развитию различных клинических типов ВБЭ: простой буллезный эпидермолиз (ПБЭ), пограничный буллезный эпидермолиз (ПогрБЭ), дистрофический буллезный эпидермолиз (ДБЭ) и синдром Киндлера [2]. Каждый тип обусловлен мутациями в определенных генах, кодирующих белки, обеспечивающие интраэпидермальные или дермо-эпидермальные соединения. Например, мутации генов KRT5, KRT14, PLEC, KLHL24, DST, EXPH5 и CD151 вызывают ПБЭ; дефекты генов COL17A1, LAMA3, LAMB3, LAMC2, ITGA6, ITGB4 и ITGA3 — различные формы ПогрБЭ; мутации гена COL7A1 — ДБЭ, а FERMT1 — синдром Киндлера [3–7]. В связи с более глубоким уровнем поражения кожи при рецессивном дистрофическом буллезном эпидермолизе (РДБЭ), подтипе ДБЭ, и ПогрБЭ возрастает риск присоединения вторичной инфекции, развития сепсиса, а также быстро метастазирующего плоскоклеточного рака кожи в области хронических кожных язв и/или на рубцах [2]. В 2016 г. распространенность ВБЭ на территории 60 из 85 субъектов Российской Федерации составила 3,9 на 1 млн населения, заболеваемость — 0,33 на 1 млн населения, при этом отмечено преобладание больных ПБЭ и ДБЭ (соответственно 48 и 24%) [8].
Изучение патогенеза и разработка терапевтических стратегий при ВБЭ сопряжены с существенными трудностями, обусловленными орфанным характером заболевания и этическими ограничениями, накладываемыми на проведение исследований с участием пациентов. В связи с этим экспериментальные модели ВБЭ на животных, особенно с использованием лабораторных мышей, приобретают ключевое значение в современной науке. Данные модели позволяют репродуцировать специфические генетические дефекты (например, мутации в Col7a1, Krt14 и др.), лежащие в основе различных типов ВБЭ, имитировать патологические процессы, ассоциированные с нарушением целостности интраэпидермального и дермо-эпидермального соединения, а также обеспечивать платформу для доклинической оценки перспективных методов терапии в условиях in vivo.
Цель данного обзора — представить современные подходы к созданию моделей ВБЭ на животных (табл. 1). Поиск информации осуществлялся по базам данных Scopus, Web of Science, e-library, Google Scholar, PubMed, MedLineа с использованием следующих запросов: epidermolysis bullosa (врожденный буллезный эпидермолиз), epidermolysis bullosa simplex (простой буллезный эпидермолиз), junctional epidermolysis bullosa (пограничный буллезный эпидермолиз), dystrophic epidermolysis bullosa (дистрофический буллезный эпидермолиз), kindler syndrome (синдром Киндлера), animal models of epidermolysis bullosa (модели врожденного буллезного эпидермолиза на лабораторных животных), epidermolysis bullosa mouse model (модели врожденного буллезного эпидермолиза на мышах). Глубина поиска — с 1995 по 2025 г.
Простой буллезный эпидермолиз
ПБЭ характеризуется образованием пузырей в верхних слоях эпидермиса и является наиболее распространенным типом ВБЭ с аутосомно-доминантным наследованием [3, 9]. В 75% случаев он обусловлен миссенс-мутациями в генах KRT5 и KRT14 белков из группы кератинов II типа, формирующих промежуточные филаменты и экспрессирующихся в основном в базальных кератиноцитах [3]. Мутация приводит к нарушению функции филаментов, но не вызывает их полную элиминацию [10].
В исследовании B. Peters и соавт. (2001 г.) инактивация гена кератина 5 (Krt5) вызывает множественные эрозии у мышей и гибель в первые часы жизни из-за отсутствия кератиновых филаментов в базальном эпидермисе [11]. C. Lloyd и соавт. (1995 г.) определили, что нокаут гена кератина 14 (Krt14) позволяет сохранить часть цитоскелета за счет компенсаторной экспрессии кератина 15 (Krt15), хотя и приводит к распространенным эрозивным дефектам кожи и смерти вскоре после рождения [12]. Инактивация генов Krt5 и Krt14 у мышей ассоциирована с тотальной деструкцией эпидермиса и неонатальной летальностью, что подчеркивает фундаментальную роль KRT5 и KRT14 в обеспечении механической прочности эпидермиса [11, 12].
Задолго до разработки нокаутных моделей R. Vassar и соавт. (1991 г.) установили, что экспрессия мутантного гена Krt14 в эпидермисе мышей приводит к обширным кожным поражениям, как при ПБЭ у людей [13]. В дальнейшем T. Cao и соавт. (2001 г.) разработана линия мышей с индуцированной точечной мутацией CT в кодоне 131 (приводящей к замене аргинина на цистеин) в гене Krt14 [14]. Данная мутация аналогична той, которая встречается у пациентов с ПБЭ [15]. Такая модель позволяет локально активировать мутантный аллель Krt14, приводит к появлению пузырей in vivo и воспроизводит фенотип ПБЭ в контролируемых условиях. Заживление пузырей происходит за счет миграции неповрежденных стволовых клеток из прилегающих зон, тем самым объясняя мозаичность заживления у пациентов с ПБЭ. При активации мутантного аллеля во всей коже мыши погибали в течение первой недели вследствие наличия обширных очагов поражения.
Исследование подчеркивает потенциальные возможности тестирования новых методов генной терапии ПБЭ на жизнеспособных моделях мышей [14]. Химерные РНК–ДНК-олигонуклеотиды могут быть использованы для исправления точечной мутации в мутантном аллеле K14 посредством гомологичной рекомбинации и исправления несоответствий [16, 17].
В редких случаях ПБЭ связан с мутациями в генах PLEC, KLHL24, DST, EXPH5 и CD151 [4]. Описано, что в 8% ПБЭ ассоциирован с мутациями гена, экспрессирующего плектин (PLEC), который является ключевым компонентом промежуточных филаментов, обеспечивает механическую прочность и стабильность клеток, особенно в эпидермисе и мышечной ткани [18]. В работе K. Andrä и соавт. (1997 г.) нокаут Plec у мышей приводит к образованию множественных, быстро вскрывающихся пузырей в базальном слое эпидермиса, прогрессирующей мышечной дистрофии, сердечной недостаточности и последующему летальному исходу на 2–3-й день после рождения [19].
Позже R. Ackerl и соавт. (2007 г.) создали модели мышей с мозаичной схемой делеции Plec, ограниченной кожей. Такие животные оказались жизнеспособными, а клиническая картина соответствовала очаговому характеру поражения кожи при ПБЭ у людей. Данная модель позволяет понять фенотипические проявления дефицита плектина в многослойном эпителии, а также проанализировать его функцию в других тканях, поражающихся при ПБЭ, таких как скелетные мышцы и мозг, что может быть использовано в качестве тест-систем для разработки новых методов терапии заболевания [20].
Пограничный буллезный эпидермолиз
ПогрБЭ — это тип ВБЭ, характеризующийся образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках на уровне светлой пластинки (lamina lucida) базальной мембраны [21]. Развитие ПогрБЭ связано с мутациями семи генов — COL17A1, LAMA3, LAMB3, LAMC2, ITGA6, ITGB4 и ITGA3, кодирующих соответственно коллаген XVII типа, α3-, β3- и γ2-цепи ламинина-332, α6-, β4- и α3-субъединицы интегрина [5, 22, 23]. Для заболевания характерен аутосомно-рецессивный тип наследования болезни, при котором манифестация болезни происходит в случае носительства мутаций на обоих аллелях соответствующего гена [22]. Аутосомно-доминантное наследование ПогрБЭ регистрируется крайне редко [24].
К двум основным субтипам относят тяжелый ПогрБЭ (ранее — тяжелый генерализованный ПогрБЭ Герлица) и ПогрБЭ средней тяжести (ранее — генерализованный ПогрБЭ средней тяжести не-Герлица) [22]. Тяжелый ПогрБЭ связан с полным отсутствием ламинина-332 — мультидоменного белка из семейства белков ламининов, функциями которых являются поддержание адгезии эпителия и эндотелия на подлежащих тканях, а также передача сигналов, регулирующих миграцию и пролиферацию клеток, сохранение жизнеспособности и дифференцировку стволовых клеток, поэтому часто приводит к летальному исходу в первые месяцы и годы жизни больного [4].
В исследовании M. Ryan и соавт. (1999 г.) описано, что нокаут Lama3 ассоциирован с появлением множественных пузырей и эрозивных дефектов у мышей и высоким уровнем неонатальной смертности [25]. X. Meng и соавт. (2003 г.) отметили, что инактивация гена Lamc2 путем направленной делеции экзона 8 со сдвигом рамки считывания приводит к обширным поражениям кожи на 1–2-й день жизни мышей и гибели в течение 5 дней после рождения [26]. J. Kuster и соавт. (1997 г.) обнаружили, что спонтанная вставка intracisternal-A particle (IAP) на стыке экзона и интрона в ген Lamb3 вызывает у мышей нарушение структуры полудесмосом, образование множественных пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках с последующим летальным исходом [27]. В связи с тяжелым течением заболевания модели с мутациями в генах Lama3, Lamb3, Lamc2 были нежизнеспособными, что затрудняло их использование в исследованиях [25–27]. J. Bubier и соавт. (2010 г.) выявили спонтанную мутацию, которая не полностью отключает ген, а лишь снижает уровень γ2-цепи ламинина-332, что помогло в создании моделей мышей, совместимых с жизнью. Гомозиготные мыши рождались живыми со стремительным развитием прогрессирующего пузырно-эрозивного поражения кожи и слизистых, очень похожего на ПогрБЭ средней тяжести у человека. Такие мыши страдали хроническими незаживающими ранами, деформацией когтей, также у них были отмечены внекожные проявления: остеопения (снижение минеральной плотности костей), нарушение роста зубов и дыхательная недостаточность. Жизнеспособная модель, описанная в работе J. Bubier и соавт. (2010 г.), представляет собой важный доклинический инструмент, который может быть использован для оценки эффективности и безопасности генной терапии перед переходом к клиническим испытаниям на пациентах [28].
A. Capt и соавт. (2005 г.) сообщили, что рецессивные мутации в генах Lama3 и Lamb3 приводят к ПогрБЭ у немецких пойнтеров — породистых собак [29]. Данная модель подходит для оценки новых разрабатываемых методов генной терапии, основанных на доставке рекомбинантной цепи α3-цепи ламинина-332 и/или стратегий сплайсинга генов, а также представляет возможность исследования толерантности к трансплантации стволовых клеток кератиноцитов, экспрессирующих β3- и γ2-цепи ламинина-332 с мутированными эпитопами [29, 30]. F. Spirito и соавт. (2002 г.) описали первую «большую» животную модель с тяжелым ПогрБЭ — у бельгийских жеребят быстро вскрывающиеся пузыри с формированием эрозий вызваны мутацией (гомозиготной вставкой пары оснований — 1368insC) в гене Lamc2, который по аминокислотной последовательности и строению цепи практически идентичен человеческому [31]. Данные модели не были целенаправленно выведены, но стали подтверждением важной роли ламинина-332 в обеспечении прочности дермо-эпидермального соединения и могут быть использованы в качестве тестирования новых методов генной терапии in vivo [29, 31].
ПогрБЭ с атрезией пилорического отдела вызван в основном мутациями генов ITGA6 и ITGB4, экспрессия которых обнаруживается в различных участках эпителия — в коже, слизистых оболочках мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта [32, 33]. В исследовании E. Georges-Labouesse и соавт. (1996 г.) описано, что отсутствие α6-субъединицы интегрина у мышей приводит к нарушению структуры полудесмосом, появлению на коже множественных пузырей, эрозий и к смерти сразу после рождения [34]. Почти одновременно R. van der Neut и соавт. (1996 г.) независимым путем вывели линию мышей без β4-субъединицы интегрина. Отсутствие полудесмосом приводило к повсеместной отслойке эпидермиса и высокой летальности [35]. Данные работы подтверждают важную роль α6β4-интегрина в прикреплении эпидермиса к базальной мембране, при отсутствии которого у моделей наблюдается клиническая картина, аналогичная тяжелому ПогрБЭ [34, 35].
В дальнейших исследованиях предпринимались попытки смягчить фенотип. Например, K. Raymond и соавт. (2005 г.) получили условно-нокаутных мышей по β4-субъединице интегрина (выключение гена в коже осуществлялось только после определенного возраста), что позволило избежать неонатальной смерти и изучить влияние потери полудесмосом на развитие заболевания [36]. У пациентов гомозиготная нонсенс-мутация в гене ITGA3 приводит к появлению быстро вскрывающихся пузырей на коже, развитию врожденного нефротического синдрома, интерстициальной болезни легких, чем обусловливает летальный исход заболевания в младенчестве или раннем детском возрасте [37]. Случаи с миссенс-мутациями характеризуются более легким течением, выживанием до позднего детства или зрелого возраста [38, 39]. В исследовании C. DiPersio и соавт. (1997 г.) описано, что выключение гена, кодирующего α3-субъединицу интегрина, к 15,5 дню эмбрионального развития мышей вызывало структурные дефекты базальной мембраны, включая прерывистое распределение ламинина-332 и коллагена IV типа, способствовало появлению и быстрому распространению субэпидермальных пузырей в коже и летальному исходу вскоре после рождения. Таким образом, авторы определили важную роль α3β1-интегрина в формировании структурной целостности базальной мембраны кожи и обеспечении адгезии эпидермиса к дерме [40].
Мутации гена коллагена XVII типа (COL17A1) обычно ассоциированы с развитием ПогрБЭ средней тяжести [41]. Коллаген XVII типа (также известный как 180 кДа антиген буллезного пемфигоида, BP180 и BPAG2) является основным структурным компонентом полудесмосом — высокоспециализированного мультибелкового комплекса, который обеспечивает крепление базальных эпителиальных клеток к подлежащей базальной мембране в многослойном, псевдо-многослойном и переходном эпителии. Помимо участия в формировании полудесмосом коллаген XVII типа регулирует дифференцировку амелобластов и тем самым участвует в развитии зубов [42–44]. В работе Y. Katoh и соавт. (2024 г.) описаны модели крыс с ПогрБЭ, который вызван мутацией в гене Col17a1. Несмотря на то что у гомозиготных крыс, у которых полностью отсутствовал коллаген XVII типа, при рождении кожа выглядела почти нормальной, в течение первого дня жизни возникали множественные пузыри по всему телу, приводящие к гибели детенышей. С помощью электронной микроскопии выявлено отсутствие составных частей полудесмосом — BP230 и плектина, хотя экспрессия мРНК этих молекул, по крайней мере во время фетального периода, не была нарушена [45]. Как и в ранее проводимых исследованиях на моделях мышей, так и в данной работе показано, что коллаген XVII типа не так важен для развития кожи в пренатальный период, но критически необходим для поддержания стабильности дермо-эпидермальных связей после рождения, поэтому предложенная модель ПогрБЭ может быть использована для дальнейшего тестирования терапевтических подходов, включая генетическую коррекцию мутаций Col17a1 [45, 46].
Дистрофический буллезный эпидермолиз
ДБЭ — это тип буллезного эпидермолиза, характеризующийся образованием пузырей в верхней части дермы, ниже темной пластинки (lamina densa) базальной мембраны. Все подтипы ДБЭ обусловлены мутациями в гене COL7A1 на хромосоме 3p21.31, кодирующем альфа-1 цепь коллагена VII типа — основного белка якорных фибрилл, структуры, участвующей в прикреплении эпидермиса к подлежащей дерме. В зависимости от типа наследования выделяют аутосомно-доминантный и аутосомно-рецессивный ДБЭ [47, 48]. Часто встречающимися клиническими формами заболевания считаются тяжелый рецессивный ДБЭ, рецессивный ДБЭ средней тяжести, доминантный ДБЭ средней тяжести и локализованный доминантный ДБЭ [49]. Наиболее тяжелое течение характерно для заболеваний с рецессивным типом наследования, обусловленных полным отсутствием или значительным уменьшением экспрессии коллагена VII типа в коже и слизистых оболочках [50–52]. Помимо кожи происходит поражение внутренних органов, включая желудочно-кишечный тракт, мочеполовые пути, почки и сердце [53, 54]. В литературе описан ряд моделей — от полных нокаутов до гипоморфных аллельных вариаций Col7a1, отражающих весь спектр разнообразия и тяжести заболевания [55, 56].
S. Heinonen и соавт. (1999 г.) описали животную модель, полученную путем целенаправленной гомологичной рекомбинации. Нацеливающий вектор заменил экзоны 46–69 Col7a1 геном устойчивости к неомицину в ориентации обратной транскрипции, что привело к элиминации большей части альфа-1 цепи коллагена VII типа. Гетерозиготные (+/–) мыши Col7a1 были фенотипически нормальными. При скрещивании мышей Col7a1 (+/–) у потомства с генотипом Col7a1 (–/–) наблюдалась полная потеря якорных фибрилл во время рождения, появление множественных субэпидермальных пузырей на коже, что приводило к смерти мышей в течение 1–2 недель жизни, полностью имитируя картину тяжелого рецессивного ДБЭ у человека. Данная модель может быть использована для изучения патогенеза ДБЭ и тестирования генной терапии [55].
Позже A. Fritsch и соавт. (2008 г.) удалось создать модели с гипоморфными аллелями Col7a1 — с пониженным, но ненулевым уровнем коллагена VII типа. Мыши, экспрессирующие около 10% нормального уровня коллагена VII типа, были жизнеспособны, но демонстрировали тяжелое течение заболевание кожи с самого рождения: множественные пузыри на слизистых и коже, ониходистрофию, заживление хронических ран с формированием контрактур и псевдосиндактилий. Данная модель впервые воспроизвела прогрессирующее рубцевание при рецессивном ДБЭ, а также подтвердила склонность к развитию опухолей — у пожилых мышей с гипоморфными аллелями Col7a1 наблюдались предраковые изменения, как и у пациентов с РДБЭ, у которых к 30–40 годам часто возникает плоскоклеточный рак кожи. Внутрикожное введение фибробластов у мышей приводило к функциональному восстановлению дермально-эпидермального соединения и сопровождалось устойчивостью обработанных участков к фрикционному стрессу, в то время как необработанные участки демонстрировали разделение слоев кожи при таком же воздействии [56].
В другом исследовании S. Hong и соавт. (2022 г.) обнаружили, что перенос отредактированных кожных эквивалентов (кератиноцитов и фибробластов) с использованием прайм-редакторов ex vivo, полученных от пациента с рецессивным ДБЭ, на кожу иммунодефицитных мышей приводит к отложению коллагена VII типа и закреплению фибрилл в дермально-эпидермальном соединении [57]. Жизнеспособная модель, описанная в работе A. Fritsch и соавт. (2008 г.), представляет собой важный доклинический инструмент, который может быть использован для оценки эффективности и безопасности новых методов терапии, в том числе генной, перед переходом к клиническим испытаниям на больных [56, 57].
S. Takaki и соавт. (2022 г.) создали животную модель рецессивного ДБЭ, содержащую мутации с использованием технологии редактирования генома i-GONAD, основанной на CRISPR. Наиболее часто встречающиеся в группах японских пациентов две мутации Col7a1 — c.5818delC и E2857X — были введены в геном мышей. Гомозиготы по мутации с.5818delC умирали сразу после рождения, в то время как у гомозигот по мутации E2857X продолжительность жизни не сокращалась. У взрослых гомозиготных мышей E2857X наблюдались аномалии роста волос, синдактилия и дистрофия ногтей, что подтверждает патогенность данной мутации. Мыши со сложной гетерозиготной мутацией c.5818delC/E2857X представляли промежуточный фенотип между гомозиготными мышами c.5818delC и E2857X с нарушением в регуляции клеточного цикла интрафолликулярных кератиноцитов. Предлагаемая стратегия получения сложных гетерозиготных мышей в дополнение к существующей линии мышей перспективна для изучения патогенеза рецессивного ДБЭ и дальнейшей разработки новых методов терапии [58].
F. Alipour и соавт. (2022 г.) также описали использование технологии CRISPR/Cas9 при разработке иммортализованных клеточных линий кератиноцитов с дефицитом COL7A1, предназначенных для использования в качестве клеточной модели рецессивного ДБЭ в исследованиях ex vivo [59]. Несмотря на то что коррекция гена COL7A1 ex vivo путем редактирования генов в клетках пациентов была достигнута не в одном исследовании [57–59], для непосредственного лечения пузырей при рецессивном ДБЭ необходимы методы редактирования in vivo. M. García и соавт. (2022 г.) создали аденовирусные векторы для доставки CRISPR-Cas9 с целью удаления экзона 80 гена COL7A1, который содержит мутацию, вызывающую сдвиг рамки. Для тестирования in vivo была использована модель мыши с гуманизированной кожей. Эффективная вирусная трансдукция кожи наблюдалась после того, как эксцизионные раны, образованные хирургическим перфоратором на регенерированных кожных лоскутах пациента, были заполнены аденовирусными векторами, помещенными в фибриновый гель. Отложение коллагена VII типа в зоне базальной мембраны поврежденных участков, обработанных векторами, коррелировало с восстановлением дермально-эпидермальной адгезии, демонстрируя, что поражения кожи пациентов с рецессивным ДБЭ можно лечить непосредственно с помощью доставки CRISPR-Cas9 in vivo [60].
B. Webber и соавт. (2017 г.) объединили кластеризованные короткие палиндромные повторы с регулярными промежутками и ассоциированную с ними систему нуклеазы (CRISPR/Cas9) с микроинъекцией в эмбрионы NOD/SCID IL2rycnull (NSG) для быстрого создания иммунодефицитной Col7a1(−/−) модели рецессивного ДБЭ на мышах. Благодаря оптимизации дозы B. Webber и соавт. достигли эффективности биаллельного нокаута F0, превышающей 80%, что позволило получать большое количество мышей за короткий промежуток времени. В исследовании также обнаружена способность недавно идентифицированных кожных резидентных иммуномодулирующих мезенхимальных стволовых клеток, маркированных ABCB5, уменьшать патологию рецессивного ДБЭ и значительно продлевать продолжительность жизни мышей за счет уменьшения инфильтрации кожи воспалительными производными миелоида. Данная модель мышей является ценным инструментом для изучения механизмов заболевания и тестирования новых терапевтических подходов, включая клеточные и генные методы терапии [61].
В исследовании W. Stone и соавт. (2024 г.) описана новая модель рецессивного ДБЭ на крысе, которая имеет преимущества над созданными ранее моделями мышей (бóльшая площадь поверхности, легкий уход). У крыс в гене Col7a1 была индуцирована делеция из восьми пар оснований, которая вызывает прежде-временное изменение стоп-кодона ниже по потоку. У гомозиготных мутантов в постнатальном периоде были обнаружены пузыри, дальнейший гистологический анализ выявил субэпидермальные трещины и отсутствие фиксирующих фибрилл. Данная модель играет важную роль для тестирования новых методов терапии ВБЭ [62].
Заболевания с доминантным типом наследования вызваны в основном миссенс-мутациями гена COL7A1, приводящими к нарушению структуры коллагена VII типа, но не полному его отсутствию, поэтому протекают обычно легче [63]. A. Nyström и соавт. (2013 г.) описали, что спонтанная мутация в гене Col7a1, вызывающая замену глицина на аспарагиновую кислоту (p.G1867D), аналогична одной из человеческих и, вызывая дестабилизацию фибрилл, способствует формированию первой жизнеспособной модели доминантного ДБЭ на крысе. Впервые показан эффект дозы гена: гомозиготные носители мутации страдают более тяжело, чем гетерозиготные. Модель повторяет все признаки человеческого заболевания — хрупкость эпителиальных структур кожи, склонность к образованию пузырей и формированию рубцов, ониходистрофию и представляет перспективы для дальнейшего изучения молекулярных механизмов болезни, роли модифицирующих генов и разработки новых методов терапии для пациентов с доминантным ДБЭ, таких как глушение генов, химически индуцированное считывание экзонов или модуляция сплайсов [64–66].
В рамках исследования B. Smith и соавт. (2021 г.) выделены две наиболее распространенные мутации гена COL7A1 (p.G2034R и p.G2043R). Используя технологию CRISPR-Cas9, данные мутации были введены в ген Col7a1 (p.G2028R и p.G2037R). Полученные гетерозиготные модели мышей демонстрируют фенотип, сходный с клиническими проявлениями доминантного ДБЭ у людей, включая рецидивирующее образование пузырей и сниженную термостабильность коллагена VII типа. Данные модели оказались жизнеспособными, тем самым представляя возможности для проведения исследований в условиях, близких к хроническому течению доминантного ДБЭ у человека [67].
Синдром Киндлера
Синдром Киндлера представляет собой редкую форму ВБЭ с аутосомно-рецессивным типом наследования, обусловленную мутациями в гене FERMT1 (KIND1), кодирующем белок kindlin-1, который играет важную роль в адгезии и экспрессируется преимущественно в базальных кератиноцитах кожи, тканях пародонта и толстой кишки [7, 68]. Клинические проявления синдрома Киндлера развиваются с рождения и включают в себя образование пузырей на коже и слизистых оболочках, последующее рубцевание с формированием рубцовых деформаций, контрактур, псевдосиндактилий, микростомии и анкилоглоссии, прогрессирующую пойкилодермию, фоточувствительность, стенозирующие процессы желудочно-кишечного и урогенитального тракта, ониходистрофию, эктропион нижних век, ладонно-подошвенную кератодермию, псевдоаингум, лейкокератоз губ, нарушение потоотделения и скелетные аномалии. Во взрослом возрасте у пациентов с синдромом Киндлера повышается риск развития плоскоклеточного рака кожи и слизистых оболочек [68–72].
X. Zhang и соавт. (2017 г.) создали кожные трансплантаты из кератиноцитов человека с дефицитом KIND1 и контрольных клеток, которые затем имплантировали на иммунодефицитных мышей, и выявили, что это повышает чувствительность кератиноцитов к повреждению ДНК и воспалительным реакциям, вызванным ультрафиолетовым излучением, тем самым объясняя механизм фоточувствительности при синдроме Киндлера [73]. E. Rognoni и соавт. (2014 г.) описали мышей с нокаутом KIND1, клиническая картина которых воспроизводит симптомы синдрома Киндлера у людей. Нокаут KIND1 приводит к увеличению и гиперактивности стволовых клеток, а это, в свою очередь, — к утолщению эпидермиса, развитию эктопических волосяных фолликулов и повышенной восприимчивости к кожным опухолям. Авторы отметили, что KIND1 играет важную роль в интеграции сигналов от интегринов и других рецепторов, влияя таким образом на адгезию клеток и сигнальные пути [74]. Использование моделей мышей помогает в более детальном исследовании данных механизмов [73, 74].
Обсуждение
Рассмотренные в настоящем обзоре экспериментальные модели ВБЭ на животных позволили существенно продвинуться в понимании молекулярных механизмов патогенеза различных форм заболевания (см. табл. 1). Генетически модифицированные линии, воспроизводящие ключевые мутации в соответствующих генах (Krt5, Krt14, Plec, Lama3, Lamb3, Lamc2, Col7a1 и др.), успешно имитируют фенотипические проявления, характерные для человеческих форм ВБЭ, и позволяют исследовать как ранние, так и поздние этапы развития патологического процесса.
Таблица 1. Модели врожденного буллезного эпидермолиза
Table 1. Models of congenital epidermolysis bullosa
Авторы, год | Тип врожденного буллезного эпидермолиза (БЭ) | Модель врожденного буллезного эпидермолиза | Выживаемость | Перспективы в применении |
Авторы, год | Тип врожденного буллезного эпидермолиза (БЭ) | Модель врожденного буллезного эпидермолиза | Выживаемость | Перспективы в применении |
B. Peters и соавт. (2001 г.) | Простой БЭ | Мышь, нокаут Krt5 | Гибель в первые часы жизни | — |
C. Lloyd и соавт. (1995 г.) | Простой БЭ | Мышь, нокаут Krt14 | Гибель в первые часы жизни | — |
R. Vassar и соавт. (1991 г.), A. Cole-Strauss и соавт. (1996 г.), V. Alexeev и соавт. (2000 г.). | Простой БЭ | Мышь, индуцированная точечная мутация CT в кодоне 131 (приводящая к замене аргинина на цистеин) в гене Krt14 | Жизнеспособная модель — при активации мутантного аллеля на определенных участках кожного покрова. Гибель в первую неделю жизни — при активации мутантного аллеля во всей коже | Тестирования новых методов генной терапии ПБЭ in vivo. Химерные РНК–ДНК-олигонуклеотиды могут быть использованы для исправления точечной мутации в мутантном аллеле Krt14 посредством гомологичной рекомбинации и репарации несоответствий |
K. Andrä и соавт. (1997 г.) | Простой БЭ | Мышь, нокаут Plec | Летальный исход на 2–3-й день после рождения | — |
Ackerl R. и соавт. (2007 г.) | Простой БЭ | Мышь, мозаичная схема делеции Plec | Жизнеспособная модель | Позволяет понять фенотипические проявления дефицита плектина в многослойном эпителии, а также проанализировать функцию плектина в других тканях, поражающихся при ПБЭ, таких как скелетные мышцы и мозг, что может быть использовано в качестве тест-систем для разработки новых методов терапии заболевания |
M. Ryan и соавт. (1999 г.) | Пограничный БЭ | Мышь, нокаут Lama3 | Неонатальная смертность | — |
X. Meng и соавт. (2003 г.) | Пограничный БЭ | Мышь, нокаут Lamc2 | Гибель в течение 5 дней после рождения | — |
J. Kuster и соавт. (1997 г.) | Пограничный БЭ | Мышь, мутация в гене Lamb3 (спонтанная вставка intracisternal-A particle (IAP) на стыке экзона и интрона) | Гибель в течение 24 ч после рождения | — |
J. Bubier и соавт. (2010 г.), F. Mavilio и соавт. (2006 г.) | Пограничный БЭ | Мышь, мутация в гене Lamc2 | Жизнеспособная модель | Может быть использована для доклинической оценки эффективности и безопасности генной терапии (эпидермальные стволовые клетки, модифицированые с использованием ретровирусного вектора, экспрессирующего комплементарную ДНК гена LAMB3) перед переходом к клиническим испытаниям на пациентах |
A. Capt и соавт. (2005 г.), A. Capt и соавт. (2003 г.) | Пограничный БЭ | Немецкий пойнтер, мутация в генах Lama3 и Lamb3 | Жизнеспособная модель | Подтверждение важной роли ламинина-332 в обеспечении прочности дермо-эпидермального соединения; подходит для оценки новых разрабатываемых методов генной терапии, основанных на доставке рекомбинантной α3-цепи ламинина-332 и/или стратегий сплайсинга генов, а также представляет возможность исследования толерантности к трансплантации стволовых клеток кератиноцитов, экспрессирующих β3- и γ2-цепи ламинина-332 с мутированными эпитопами |
F. Spirito и соавт. (2002 г.) | Пограничный БЭ | Бельгийский жеребенок, мутация (гомозиготная вставка пары оснований — 1368insC) в гене Lamc2 | Жизнеспособная модель | Подтверждение важной роли ламинина-332 в обеспечении прочности дермо-эпидермального соединения, может быть использована в качестве тестирования новых методов генной терапии in vivo |
E. Georges-Labouesse и соавт. (1996 г.) | Пограничный БЭ | Мышь, нокаут Itga6 | Гибель сразу после рождения | — |
R. van der Neut и соавт. (1996 г.) | Пограничный БЭ | Мышь, нокаут Itgb4 | Летальный исход на 2–3-й день после рождения | — |
K. Raymond и соавт. (2005 г.) | Пограничный БЭ | Мышь, нокаут Itgb4 (условно-нокаутная модель — выключение гена в коже осуществлялось только после определенного возраста) | Жизнеспособная модель | Позволяет изучить влияние потери полудесмосом на развитие заболевания |
C. DiPersio и соавт. (1997 г.) | Пограничный БЭ | Мышь, нокаут гена, кодирующего α3-субъединицу α3β1-интегрина | Гибель сразу после рождения | — |
Y. Katoh и соавт. (2024 г.) | Пограничный БЭ | Крыса, мутация в гене Col17a1 | Гибель в течение первых нескольких дней или недель после рождения | Может быть использовано для тестирования терапевтических подходов, включая генетическую коррекцию мутаций Col17a1 |
S. Heinonen и соавт. (1999 г.) | Дистрофический БЭ | Мышь, нокаут Col7a1 | Гибель в течение 1–2 недель жизни | Может быть использована для изучения патогенеза ДБЭ и тестирования генной терапии |
S. Takaki и соавт. (2022 г.) | Дистрофический БЭ | Мышь, мутации c.5818delC и E2857X в Col7a1 | Гомозиготы по мутации с.5818delC — гибель сразу после рождения, гомозиготы по мутации E2857X — жизнеспособная модель, мыши со сложной гетерозиготной мутацией c.5818delC/E2857X — жизнеспособная модель | Предлагаемая стратегия получения сложных гетерозиготных мышей в дополнение к существующей линии мышей перспективна для изучения патогенеза рецессивного ДБЭ и дальнейшей разработки новых методов терапии |
A. Fritsch и соавт. (2008 г.), S. Hong и соавт. (2022 г.) | Дистрофический БЭ | Мышь с гипоморфными аллелями Col7a1 | Жизнеспособная модель | Может быть использована для оценки эффективности и безопасности новых методов терапии, в том числе генной, перед переходом к клиническим испытаниям на пациентах |
M. García и соавт. (2022 г.) | Дистрофический БЭ | Мышь с гуманизированной кожей | Жизнеспособная модель | Может быть использована для исследования лечения БЭ с помощью доставки CRISPR-Cas9 in vivo |
B. Webber и соавт. (2017 г.) | Дистрофический БЭ | Мышь, нокаут Col7a1 с помощью технологии CRISPR/Cas9 | Жизнеспособная иммунодефицитная модель | Является ценным инструментом для изучения механизмов заболевания и тестирования новых терапевтических подходов, включая клеточные и генные методы терапии |
A. Nyström и соавт. (2013 г.) | Дистрофический БЭ | Крыса, мутация в гене Col7a1, вызывающая замену глицина на аспарагиновую кислоту (p.G1867D) | Жизнеспособная модель | Повторяет все признаки человеческого заболевания и представляет перспективы для дальнейшего изучения молекулярных механизмов болезни, роли модифицирующих генов и разработки новых методов терапии, таких как глушение генов, химически индуцированное считывание экзонов или модуляция сплайсов |
B. Smith и соавт. (2021 г.) | Дистрофический БЭ | Мышь, мутации гена COL7A1 (p.G2034R и p.G2043R) | Жизнеспособная модель | Представляет возможности для проведения исследований в условиях, близких к хроническому течению доминантного ДБЭ у человека |
X. Zhang и соавт. (2017 г.) | Синдром Киндлера | Мышь, дефицит Kind1 | Жизнеспособная модель | Помогает в более детальном исследовании механизма фоточувствительности при синдроме Киндлера |
E. Rognoni и соавт. (2014 г.) | Синдром Киндлера | Мышь, нокаут Kind1 | Жизнеспособная модель | Помогает в более детальном изучении патогенеза синдрома Киндлера |
Особое значение имеют модели, воспроизводящие доминантные формы ВБЭ, такие как ПБЭ, поскольку они характеризуются относительно легким течением, отсутствием выраженных нарушений роста и высокой выживаемостью животных. Это создает уникальные условия для длительных доклинических исследований, тестирования новых терапевтических подходов, включая генные и клеточные технологии, а также для изучения механизмов спонтанного заживления и мозаичности поражений [14–17, 20].
В то же время модели тяжелых рецессивных форм ВБЭ (ПогрБЭ, ДБЭ), несмотря на их высокую клиническую релевантность, часто сопровождаются неонатальной летальностью, что существенно ограничивает их применение в длительных исследованиях и требует разработки новых стратегий по смягчению фенотипа или созданию условных нокаутов [25–57].
Моделирование ВБЭ на лабораторных животных, прежде всего на мышах, дает возможность изучать молекулярные основы заболевания и инициировать разработку новых эффективных методов лечения. Появление редактирования генома с помощью CRISPR-Cas9 [58–61], позволяющее вносить целевые мутации — как делеции, так и точечные мутации — в интересующие гены, упростило процесс моделирования заболевания.
Заключение
Экспериментальные модели ВБЭ на животных, в первую очередь на мышах, являются незаменимым инструментом для изучения патогенеза и доклинической оценки новых методов терапии данного орфанного заболевания. Создание и совершенствование животных моделей, отражающих как легкие, так и тяжелые формы ВБЭ, позволило существенно расширить представления о роли структурных белков в обеспечении целостности кожного покрова, а также выявить ключевые мишени для генной и клеточной терапии. Дальнейшее совершенствование моделей необходимо для эффективной трансляции экспериментальных данных в клиническую практику.
About the authors
Arfenya E. Karamova
State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
Email: karamova@cnikvi.ru
ORCID iD: 0000-0003-3805-8489
SPIN-code: 3604-6491
MD, Cand. Sci. (Med.), Assistant Professor
Russian Federation, MoscowEkaterina V. Girko
State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
Email: katrin_45_34@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7723-8701
SPIN-code: 9506-0978
Junior Research Associate
Russian Federation, MoscowKseniya M. Aulova
State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
Author for correspondence.
Email: aulovaksenia@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2924-3036
SPIN-code: 8310-7019
Junior Research Associate
Russian Federation, MoscowXenia I. Plahova
State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
Email: plahova_xenia@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-4169-4128
SPIN-code: 7634-5521
MD, Dr. Sci. (Med.), Assistant Professor
Russian Federation, MoscowReferences
- Natsuga K, Shinkuma S, Hsu CK, Fujita Y, Ishiko A, Tamai K, et al. Current topics in Epidermolysis bullosa: pathophysiology and therapeutic challenges. J Dermatol Sci. 2021;104(3):164–176. doi: 10.1016/j.jdermsci.2021.11.004
- Hou PC, Wang HT, Abhee S, Tu WT, McGrath JA, Hsu CK. Investigational treatments for epidermolysis bullosa. Am J Clin Dermatol. 2021;22(6):801–817. doi: 10.1007/s40257-021-00626-3
- Bolling MC, Lemmink HH, Jansen GH, Jonkman MF. Mutations in KRT5 and KRT14 cause epidermolysis bullosa simplex in 75% of the patients. Br J Dermatol. 2011;164(3):637–644. doi: 10.1111/j.1365-2133.2010.10146.x
- Коталевская Ю.Ю., Степанов В.А. Молекулярно-генетические основы буллезного эпидермолиза. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2023;27(1):18–27. [Kotalevskaya YuYu, Stepanov VA. Molecular genetic basis of epidermolysis bullosa. Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2023;27(1):18–27. (In Russ.)] doi: 10.18699/VJGB-23-04
- Hirsch T, Rothoeft T, Teig N, Bauer JW, Pellegrini G, De Rosa L, et al. Regeneration of the entire human epidermis using transgenic stem cells. Nature. 2017;551(7680):327–332. doi: 10.1038/nature24487
- Mariath LM, Santin JT, Schuler-Faccini L, Kiszewski AE. Inherited epidermolysis bullosa: update on the clinical and genetic aspects. An Bras Dermatol. 2020;95(5):551–569. doi: 10.1016/j.abd.2020.05.001
- Stefanescu BI, Radaschin DS, Mitrea G, Anghel L, Beznea A, Constantin GB, et al. Epidermolysis Bullosa-A Kindler Syndrome Case Report and Short Literature Review. Clin Pract. 2023;13(4):873–880. doi: 10.3390/clinpract13040079
- Кубанов А.А., Карамова А.Э., Чикин В.В., Богданова Е.В., Мончаковская Е.С. Эпидемиология и состояние оказания медицинской помощи больным врожденным буллезным эпидермолизом в Российской Федерации. Вестник РАМН. 2018;73(6):420–430. [Kubanov AA, Karamova AA, Chikin VV, Bogdanova EV, Monchakovskaya ES. Epidemiology and Providing of Healthcare for Patients with Inherited Epidermolysis Bullosa in the Russian Federation. Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2018;73(6):420–430. (In Russ.)] doi: 10.15690/vramn980
- So JY, Fulchand S, Wong CY, Li S, Nazaroff J, Gorell ES, et al. A global, cross-sectional survey of patient-reported outcomes, disease burden, and quality of life in epidermolysis bullosa simplex. Orphanet J Rare Dis. 2022;17(1):270. doi: 10.1186/s13023-022-02433-3
- Lane EB, McLean WH. Keratins and skin disorders. J Pathol. 2004;204(4):355–366. doi: 10.1002/path.1643
- Peters B, Kirfel J, Büssow H, Vidal M, Magin TM. Complete cytolysis and neonatal lethality in keratin 5 knockout mice reveal its fundamental role in skin integrity and in epidermolysis bullosa simplex. Mol Biol Cell. 2001;12(6):1775–1789. doi: 10.1091/mbc.12.6.1775
- Lloyd C, Yu QC, Cheng J, Turksen K, Degenstein L, Hutton E, et al. The basal keratin network of stratified squamous epithelia: defining K15 function in the absence of K14. J Cell Biol. 1995;129(5):1329–1344. doi: 10.1083/jcb.129.5.1329
- Vassar R, Coulombe PA, Degenstein L, Albers K, Fuchs E. Mutant keratin expression in transgenic mice causes marked abnormalities resembling a human genetic skin disease. Cell. 1991;64(2):365–380. doi: 10.1016/0092-8674(91)90645-f
- Cao T, Longley MA, Wang XJ, Roop DR. An inducible mouse model for epidermolysis bullosa simplex: implications for gene therapy. J Cell Biol. 2001;152(3):651–656. doi: 10.1083/jcb.152.3.651
- Lane EB, Rugg EL, Navsaria H, Leigh IM, Heagerty AH, Ishida-Yamamoto A, et al. A mutation in the conserved helix termination peptide of keratin 5 in hereditary skin blistering. Nature. 1992;359(6396):670–673. doi: 10.1038/356244a0
- Cole-Strauss A, Yoon K, Xiang Y, Byrne BC, Rice MC, Gryn J, et al. Correction of the mutation responsible for sickle cell anemia by an RNA–DNA oligonucleotide. Science. 1996;273(5280):1386–1389. doi: 10.1126/science.273.5280.1386
- Alexeev V, Igoucheva O, Domashenko A, Cotsarelis G, Yoon K. Localized in vivo genotypic and phenotypic correction of the albino mutation in skin by RNA–DNA oligonucleotide. Nat Biotechnol. 2000;18(1):43–47. doi: 10.1038/71901
- Bolling MC, Jongbloed JD, Boven LG, Diercks GF, Smith FJ, McLean WH, et al. Plectin mutations underlie epidermolysis bullosa simplex in 8% of patients. J Invest Dermatol. 2014;134(1):273–276. doi: 10.1038/jid.2013.277
- Andrä K, Lassmann H, Bittner R, Shorny S, Fässler R, Propst F, et al. Targeted inactivation of plectin reveals essential function in maintaining the integrity of skin, muscle, and heart cytoarchitecture. Genes Dev. 1997;11(23):3143–3156. doi: 10.1101/gad.11.23.3143
- Ackerl R, Walko G, Fuchs P, Fischer I, Schmuth M, Wiche G. Conditional targeting of plectin in prenatal and adult mouse stratified epithelia causes keratinocyte fragility and lesional epidermal barrier defects. J Cell Sci. 2007;120(Pt 14):2435–2443. doi: 10.1242/jcs.004481
- Aumailley M. Laminins and interaction partners in the architecture of the basement membrane at the dermal-epidermal junction. Exp Dermatol. 2021;30(1):17–24. doi: 10.1111/exd.14239
- Has C, Bauer JW, Bodemer C, Bolling MC, Bruckner-Tuderman L, Diem A, et al. Consensus reclassification of inherited epidermolysis bullosa and other disorders with skin fragility. Br J Dermatol. 2020;183(4):614–627. doi: 10.1111/bjd.18921
- Uitto J, Has C, Vahidnezhad H, Youssefian L, Bruckner-Tuderman L. Molecular pathology of the basement membrane zone in heritable blistering diseases: The paradigm of epidermolysis bullosa. Matrix Biol. 2017;57–58:76–85. doi: 10.1016/j.matbio.2016.07.009
- Turcan I, Pasmooij AMG, van den Akker PC, Lemmink H, Halmos GB, Sinke RJ, et al. Heterozygosity for a novel missense mutation in the ITGB4 gene associated with autosomal dominant epidermolysis bullosa. JAMA Dermatol. 2016;152(5):558–562. doi: 10.1001/jamadermatol.2015.5236
- Ryan MC, Lee K, Miyashita Y, Carter WG. Targeted disruption of the LAMA3 gene in mice reveals abnormalities in survival and late stage differentiation of epithelial cells. J Cell Biol. 1999;145(6):1309–1323. doi: 10.1083/jcb.145.6.1309
- Meng X, Klement JF, Leperi DA, Birk DE, Sasaki T, Timpl R, et al. Targeted inactivation of murine laminin gamma2-chain gene recapitulates human junctional epidermolysis bullosa. J Invest Dermatol. 2003;121(4):720–731. doi: 10.1046/j.1523-1747.2003.12515.x
- Kuster JE, Guarnieri MH, Ault JG, Flaherty L, Swiatek PJ. IAP insertion in the murine LamB3 gene results in junctional epidermolysis bullosa. Mamm Genome. 1997;8(9):673–681. doi: 10.1007/s003359900535
- Bubier JA, Sproule TJ, Alley LM, Webb CM, Fine JD, Roopenian DC, et al. A mouse model of generalized non-Herlitz junctional epidermolysis bullosa. J Invest Dermatol. 2010;130(7):1819–1828. doi: 10.1038/jid.2010.46
- Capt A, Spirito F, Guaguere E, Spadafora A, Ortonne JP, Meneguzzi G. Inherited junctional epidermolysis bullosa in the German Pointer: establishment of a large animal model. J Invest Dermatol. 2005;124(3):530–535. doi: 10.1111/j.0022-202X.2004.23584.x
- Capt A, Spirito F, Guyon R, André C, Ortonne JP, Meneguzzi G. Cloning of laminin gamma2 cDNA and chromosome mapping of the genes for the dog adhesion ligand laminin 5. Biochem Biophys Res Commun. 2003;312(4):1256–1265. doi: 10.1016/j.bbrc.2003.11.058
- Spirito F, Charlesworth A, Linder K, Ortonne JP, Baird J, Meneguzzi G. Animal models for skin blistering conditions: absence of laminin 5 causes hereditary junctional mechanobullous disease in the Belgian horse. J Invest Dermatol. 2002;119(3):684–691. doi: 10.1046/j.1523-1747.2002.01852.x
- Lucky AW, Gorell E. Epidermolysis bullosa with pyloric atresia. In: GeneReviews. Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al. (eds) University of Washington, Seattle, Seattle (WA); 1993.
- Pereda JM de, Lillo MP, Sonnenberg A. Structural basis of the interaction between integrin alpha6beta4 and plectin at the hemidesmosomes. EMBO J. 2009;28(8):1180–1190. doi: 10.1038/emboj.2009.48
- Georges-Labouesse E, Messaddeq N, Yehia G, Cadalbert L, Dierich A, Le Meur M. Absence of integrin alpha 6 leads to epidermolysis bullosa and neonatal death in mice. Nat Genet. 1996;13(3):370–373. doi: 10.1038/ng0796-370
- van der Neut R, Krimpenfort P, Calafat J, Niessen CM, Sonnenberg A. Epithelial detachment due to absence of hemidesmosomes in integrin beta 4 null mice. Nat Genet. 1996;13(3):366–369. doi: 10.1038/ng0796-366
- Raymond K, Kreft M, Janssen H, Calafat J, Sonnenberg A. Keratinocytes display normal proliferation, survival and differentiation in conditional beta4-integrin knockout mice. J Cell Sci. 2005;118(Pt 5):1045–1060. doi: 10.1242/jcs.01689
- Has C, Spartà G, Kiritsi D, Weibel L, Moeller A, Vega-Warner V, et al. Integrin α3 mutations with kidney, lung, and skin disease. N Engl J Med. 2012;366(16):1508–1514. doi: 10.1056/NEJMoa1110813
- Kinyó Á, Kovács AL, Degrell P, Kálmán E, Nagy N, Kárpáti S, et al. Homozygous ITGA3 Missense Mutation in Adults in a Family with Syndromic Epidermolysis Bullosa (ILNEB) without Pulmonary Involvement. J Invest Dermatol. 2021;141(11):2752–2756. doi: 10.1016/j.jid.2021.03.029
- Colombo EA, Spaccini L, Volpi L, Negri G, Cittaro D, Lazarevic D, et al. Viable phenotype of ILNEB syndrome without nephrotic impairment in siblings heterozygous for unreported integrin alpha3 mutations. Orphanet J Rare Dis. 2016;11(1):136. doi: 10.1186/s13023-016-0514-z
- DiPersio CM, Hodivala-Dilke KM, Jaenisch R, Kreidberg JA, Hynes RO. alpha3beta1 Integrin is required for normal development of the epidermal basement membrane. J Cell Biol. 1997;137(3):729–742. doi: 10.1083/jcb.137.3.729
- Vaz SO, Dâmaso C, Liu L, Ozoemena L, Mota-Vieira L. Severe phenotype of junctional epidermolysis bullosa generalised intermediate type caused by homozygous COL17A1:c.505C>T (p.Arg169*) mutation. Eur J Dermatol. 2018;28(3):412–413. doi: 10.1684/ejd.2018.3279
- Van den Bergh F, Giudice GJ. BP180 (type XVII collagen) and its role in cutaneous biology and disease. Adv Dermatol. 2003;19:37–71.
- Franzke CW, Tasanen K, Schumann H, Bruckner-Tuderman L. Collagenous transmembrane proteins: collagen XVII as a prototype. Matrix Biol. 2003;22(4):299–309. doi: 10.1016/s0945-053x(03)00051-9
- Koster J, Borradori L, Sonnenberg A. Hemidesmosomes: molecular organization and their importance for cell adhesion and disease. Handb Exp Pharmacol. 2004;165:243–280. doi: 10.1007/978-3-540-68170-0-9
- Katoh Y, Sato A, Takahashi N, Nishioka Y, Shimizu-Endo N, Ito T, et al. Junctional Epidermolysis Bullosa in Sprague Dawley Rats Caused by a Frameshift Mutation of Col17a1 Gene. Lab Invest. 2024;104(10):102132. doi: 10.1016/j.labinv.2024.102132
- Sproule TJ, Bubier JA, Grandi FC, Sun VZ, Philip VM, McPhee CG, et al. Molecular identification of collagen 17a1 as a major genetic modifier of laminin gamma 2 mutation-induced junctional epidermolysis bullosa in mice. PLoS Genet. 2014;10(2):e1004068. doi: 10.1371/journal.pgen.1004068
- Parente MG, Chung LC, Ryynänen J, Woodley DT, Wynn KC, Bauer EA, et al. Human type VII collagen: cDNA cloning and chromosomal mapping of the gene. Proc Natl Acad Sci U S A. 1991;88(16):6931–6935. doi: 10.1073/pnas.88.16.6931
- Christiano AM, Greenspan DS, Lee S, Uitto J. Cloning of human type VII collagen. Complete primary sequence of the alpha 1(VII) chain and identification of intragenic polymorphisms. J Biol Chem. 1994;269(32):20256–20262.
- Кубанов АА, Чикин ВВ, Карамова АЭ. Дистрофический врожденный буллезный эпидермолиз: клинико-генетические корреляции. Вестник дерматологии и венерологии. 2023;99(4):60–83. [Kubanov AA, Chikin VV, Karamova AE. Dystrophic epidermolysis bullosa: genotype-phenotype correlations. Vestnik Dermatologii i Venerologii. 2023;99(4):60–83. (In Russ.)] doi: 10.25208/vdv13281
- Fine JD, Bruckner-Tuderman L, Eady RA, Bauer EA, Bauer JW, Has C, et al. Inherited epidermolysis bullosa: updated recommendations on diagnosis and classification. J Am Acad Dermatol. 2014;70(6):1103–1126. doi: 10.1016/j.jaad.2014.01.903
- Bruckner-Tuderman L. Dystrophic epidermolysis bullosa: pathogenesis and clinical features. Dermatol Clin. 2010;28(1):107–114. doi: 10.1016/j.det.2009.10.020
- Intong LR, Murrell DF. Inherited epidermolysis bullosa: new diagnostic criteria and classification. Clin Dermatol. 2012;30(1):70–77. doi: 10.1016/j.clindermatol.2011.03.012
- Fine JD, Mellerio JE. Extracutaneous manifestations and complications of inherited epidermolysis bullosa: part I. Epithelial associated tissues. J Am Acad Dermatol. 2009;61(3):367–384. doi: 10.1016/j.jaad.2009.03.052
- Fine JD, Mellerio JE. Extracutaneous manifestations and complications of inherited epidermolysis bullosa: part II. Other organs. J Am Acad Dermatol. 2009;61(3):387–402. doi: 10.1016/j.jaad.2009.03.053
- Heinonen S, Männikkö M, Klement JF, Whitaker-Menezes D, Murphy GF, Uitto J. Targeted inactivation of the type VII collagen gene (Col7a1) in mice results in severe blistering phenotype: a model for recessive dystrophic epidermolysis bullosa. J Cell Sci. 1999;112(Pt 21):3641–3648. doi: 10.1242/jcs.112.21.3641
- Fritsch A, Loeckermann S, Kern JS, Braun A, Bösl MR, Bley TA, et al. A hypomorphic mouse model of dystrophic epidermolysis bullosa reveals mechanisms of disease and response to fibroblast therapy. J Clin Invest. 2008;118(5):1669–1679. doi: 10.1172/JCI34292
- Hong SA, Kim SE, Lee AY, Hwang GH, Kim JH, Iwata H, et al. Therapeutic base editing and prime editing of COL7A1 mutations in recessive dystrophic epidermolysis bullosa. Mol Ther. 2022;30(8):2664–2679. doi: 10.1016/j.ymthe.2022.06.005
- Takaki S, Shimbo T, Ikegami K, Kitayama T, Yamamoto Y, Yamazaki S, et al. Generation of a recessive dystrophic epidermolysis bullosa mouse model with patient-derived compound heterozygous mutations. Lab Invest. 2022;102(6):574–580. doi: 10.1038/s41374-022-00735-5
- Alipour F, Ahmadraji M, Yektadoost E, Mohammadi P, Baharvand H, Basiri M. CRISPR/Cas9-Mediated Generation of COL7A1-Deficient Keratinocyte Model of Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa. Cell J. 2023;25(10):665–673. doi: 10.22074/cellj.2023.1989321.1225
- García M, Bonafont J, Martínez-Palacios J, Xu R, Turchiano G, Svensson S, et al. Preclinical model for phenotypic correction of dystrophic epidermolysis bullosa by in vivo CRISPR-Cas9 delivery using adenoviral vectors. Mol Ther Methods Clin Dev. 2022;27:96–108. doi: 10.1016/j.omtm.2022.09.005
- Webber BR, O’Connor KT, McElmurry RT, Durgin EN, Eide CR, Lees CJ, et al. Rapid generation of Col7a1–/– mouse model of recessive dystrophic epidermolysis bullosa and partial rescue via immunosuppressive dermal mesenchymal stem cells. Lab Invest. 2017;97(10):1218–1224. doi: 10.1038/labinvest.2017.85
- Stone W, Strege C, Miller W, Geurts AM, Grzybowski M, Riddle M, et al. Creation and characterization of novel rat model for recessive dystrophic epidermolysis bullosa: Frameshift mutation of the Col7a1 gene leads to severe blistered phenotype. PLoS One. 2024;19(5):e0302991. doi: 10.1371/journal.pone.0302991
- Chung HJ, Uitto J. Type VII collagen: the anchoring fibril protein at fault in dystrophic epidermolysis bullosa. Dermatol Clin. 2010;28(1):93– 105. doi: 10.1016/j.det.2009.10.011
- Nyström A, Buttgereit J, Bader M, Shmidt T, Ozcelik C, Hausser I, et al. Rat model for dominant dystrophic epidermolysis bullosa: glycine substitution reduces collagen VII stability and shows gene-dosage effect. PLoS One. 2013;8(5):e64243. doi: 10.1371/journal.pone.0064243
- Nishida A, Kataoka N, Takeshima Y, Yagi M, Awano H, Ota M, et al. Chemical treatment enhances skipping of a mutated exon in the dystrophin gene. Nat Commun. 2011;2:308. doi: 10.1038/ncomms1306
- Goto M, Sawamura D, Nishie W, Sakai K, McMillan JR, Akiyama M, et al. Targeted skipping of a single exon harboring a premature termination codon mutation: implications and potential for gene correction therapy for selective dystrophic epidermolysis bullosa patients. J Invest Dermatol. 2006;126(12):2614–2620. doi: 10.1038/sj.jid.5700435
- Smith BRC, Nyström A, Nowell CJ, Hausser I, Gretzmeier C, Robertson SJ, et al. Mouse models for dominant dystrophic epidermolysis bullosa carrying common human point mutations recapitulate the human disease. Dis Model Mech. 2021;14(6):dmm048082. doi: 10.1242/dmm.048082
- Youssefian L, Vahidnezhad H, Uitto J. Kindler syndrome. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al. (eds) Gene Reviews. Seattle, Seattle (WA): University of Washington; 1993.
- Krishna CV, Parmar NV, Has C. Kindler syndrome with severe mucosal involvement in childhood. Clin Exp Dermatol. 2014;39(3):340–343. doi: 10.1111/ced.12293
- Krämer S, Hillebrecht AL, Wang Y, Badea MA, Barrios JI, Danescu S, et al. Orofacial Anomalies in Kindler Epidermolysis Bullosa. JAMA Dermatol. 2024;160(5):544–549. doi: 10.1001/jamadermatol.2024.0065
- El Hachem M, Diociaiuti A, Proto V, Fortugno P, Zambruno G, Castiglia D, et al. Kindler syndrome with severe mucosal involvement in a large Palestinian pedigree. Eur J Dermatol. 2015;25(1):14–19. doi: 10.1684/ejd.2014.2457
- Wiebe CB, Penagos H, Luong N, Slots J, Epstein E Jr, Siegel D, et al. Clinical and microbiologic study of periodontitis associated with Kindler syndrome. J Periodontol. 2003;74(1):25–31. doi: 10.1902/jop.2003.74.1.25
- Zhang X, Luo S, Wu J, Zhang L, Wang WH, Degan S, et al. KIND1 Loss Sensitizes Keratinocytes to UV-Induced Inflammatory Response and DNA Damage. J Invest Dermatol. 2017;137(2):475–483. doi: 10.1016/j.jid.2016.09.023
- Rognoni E, Widmaier M, Jakobson M, Ruppert R, Ussar S, Katsougkri D, et al. Kindlin-1 controls Wnt and TGF-β availability to regulate cutaneous stem cell proliferation. Nat Med. 2014;20(4):350–359. doi: 10.1038/nm.3490
Supplementary files