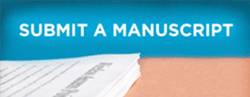Phototherapy in treatment of rare dermatoses
- Authors: Zhilova M.B.1
-
Affiliations:
- State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
- Issue: Vol 100, No 6 (2024)
- Pages: 22-29
- Section: REVIEWS
- Submitted: 09.10.2024
- Accepted: 19.11.2024
- Published: 15.12.2024
- URL: https://vestnikdv.ru/jour/article/view/16835
- DOI: https://doi.org/10.25208/vdv16835
- ID: 16835
Cite item
Full Text
Abstract
The review presents current data on the mechanisms of action of phototherapy methods in dermatology (UVB-311 therapy, PUVA-therapy, UVA-1 therapy). They are realized in providing antiproliferative, immunomodulatory, antifibrotic, antipruritic, antimicrobial effects on pathological processes in the skin. The similarities and differences of the effects on cellular structures of different spectral ranges are described. The literature data on the effectiveness of phototherapy methods in rare nosological forms of skin diseases, including dermatoses with keratinization disorders, connective tissue diseases, vascular malformations, erythematous conditions based on a variety of therapeutic mechanisms are presented.
Full Text
Введение
Использование методов ультрафиолетовой терапии для лечения заболеваний кожи остается важной составляющей в практике врача-дерматовенеролога. Высокая эффективность методов фототерапии подтверждена при таких заболеваниях, как псориаз, экзема, атопический дерматит, грибовидный микоз, витилиго, локализованная склеродермия [1]. Доступность и экономичность методов, курсовое применение и отсутствие необходимости в поддерживающей терапии определяют преимущества фототерапевтического воздействия в клинической практике, при этом методы фототерапии по эффективности зачастую не уступают системной лекарственной терапии, ингибиторам интерлейкина, моноклональным антителам [2, 3]. Наиболее широко применяются узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия с длиной волны 310–315 нм, фотохимиотерапия (длинноволновое ультрафиолетовое излучение 320–400 нм с применением фотосенсибилизатора), ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового спектра 340–400 нм (УФА-1).
Степень и глубина проникновения спектральных диапазонов различны. УФB-излучение в первую очередь воздействует на эпидермис и верхние слои дермы, УФA-излучение проникает в средние и глубокие слои, спектр УФА-1 может достигать подкожно-жировой клетчатки. Первоначально фотоны света поглощаются молекулами-мишенями в эпидермисе и дерме. Чем короче длина волны, тем сильнее эффект рассеяния, который усиливает взаимодействие излучения с молекулами и препятствует распространению излучения в более глубокие слои тканей. В результате рассеяния и поглощения УФB может проникать в кожу на глубину около 0,1 мм, а УФA — около 0,8 мм [4].
В последние годы появляется все большее количество работ, подтверждающих новые возможности использования методов фототерапии, в том числе при редких нозологических формах заболеваний кожи.
Цель данного обзора — оценка терапевтического потенциала фототерапии при редких дерматозах, что в перспективе может явиться основой для изучения еще неизвестных механизмов действия этих методов.
Механизмы действия методов фототерапии
Методы фототерапии используются уже более 100 лет, при этом точный механизм их терапевтических эффектов остается не до конца изученным. Согласно современным представлениям механизмы действия УФА- и УФВ-излучения на кожу различаются. УФВ/УФВ-311 излучение поглощается эндогенными хромофорами, в большей степени ядерной ДНК, что приводит к возникновению ковалентных связей между двумя соседними пиримидиновыми (цитозиновым и тиминовым) основаниями в цепи ДНК и образованию димеров пиримидина. Наиболее важными димерами пиримидина являются циклобутанпиримидиновые димеры (CPD) и фотопродукты пиримидин-(6-4)-пиримидонового ряда. Они непосредственно влияют на структуру ДНК, нарушая физиологическую функцию ферментов, участвующих в репликации и транскрипции. Если повреждение слишком существенное и не может быть устранено механизмами репарации, запускается механизм индукции апоптоза и гибели клетки. Этот эффект является ключевым в реализации ингибирующего действия пролиферации и индуцирует апоптоз в кератиноцитах [4–8]. Также было показано, что УФВ-311 вызывает апоптоз в Т-лимфоцитах [9], подавляет выработку провоспалительных цитокинов, таких как IL-1α, IL-2, IL-5 и IL-6, стимулирует синтез противовоспалительного цитокина IL-10 [10], уменьшает количество эпидермальных клеток Лангерганса [11]. Было показано, что воздействие УФВ-311 на кожу эффективно подавляет колонизацию золотистого стафилококка, снижает выработку супер-антигенов, повышает уровень мРНК антимикробных пептидов [12–14].
Механизм действия ПУВА-терапии основан на взаимодействии активированного фотосенсибилизатора с ДНК клетки с последующим формированием моно- и бифункциональных аддуктов, в результате чего ингибируется репликация ДНК с остановкой клеточного цикла. Каскад фотохимических реакций под воздействием активированного фотосенсибилизатора вызывает изменение экспрессии цитокинов и цитокиновых рецепторов. Фотосенсибилизатор взаимодействует с РНК, белками и другими клеточными компонентами и косвенно модифицирует белки и липиды посредством реакций, обусловленных синглетным кислородом, или путем образования свободных радикалов [15]. В результате взаимодействия эндогенного фотосенсибилизатора и УФА-излучения генерируются активные формы кислорода, повреждающие клеточные структуры [16]. Помимо иммуносупрессивного и антипролиферативного действия ПУВА-терапия оказывает противофиброзный эффект за счет индукции матриксных металлопротеиназ (таких как MMP-1) и ингибирования фибробластов [17, 18]. Важными УФА-хромофорами в коже являются меланин, гемоглобин, вода, а также белки, жирные кислоты, ДНК, эндогенные порфирины и витамины [19]. Когда ультрафиолетовое излучение поглощается молекулами кожи, энергия излучения быстро преобразуется в тепло или флуоресценцию. Поглощенные фотоны могут вызывать конформационные, структурные или химические изменения в этих молекулах, что приводит к изменению данных соединений. Это также может обусловить химические изменения в поглощающих молекулах (например, ДНК, белках, липидах). Химически модифицированные молекулы могут иметь измененные спектры поглощения и поглощать не только УФА-, но и УФB-излучение, а также генерировать синглетный кислород на обеих длинах волн [20]. При длительном ультрафиолетовом облучении механизмы, запускаемые этими молекулами в коже, могут отличаться в начале и конце воздействия [21].
Фотобиологические эффекты дальнего длинноволнового ультрафиолетового излучения (УФА-1) в первую очередь основаны на индукции апоптоза лимфоцитов, тучных клеток и клеток Лангерганса, на ингибировании экспрессии Th2-ассоциированных цитокинов, таких как IL-5, IL-13 и IL-31, подавлении выработки TNF-α и IL-12, а также изомеризации цис-урокановой кислоты [22–24]. При этом иммуносупрессивный эффект дальнего длинноволнового спектра УФА-1 принципиально отличается от эффектов УФА и УФВ-311. УФА-1 нарушает митохондриальный гомеостаз, что приводит к образованию супероксид анионов, высвобождению цитохрома С, активации каспазы-3, запуску апоптоза лимфоцитов и незрелых тучных клеток, либо в результате выработки синглетного кислорода активируется фактор, инициирующий апоптоз. УФА-1 оказывает выраженный антифиброзный эффект путем активации интерстициальной коллагенозы и деградации коллагена [22–26]. Все методы фототерапии уменьшают зуд. Это может быть связано со снижением системных уровней определенных растворимых факторов, таких как IL-4, IL-5, IL-17, IL-13 и IL- 31, нейроактивных молекул, рецепторов зуда [27].
Установлено влияние фототерапии непосредственно на микробиом кожи за счет воздействия на звено «микроорганизм–хозяин». Эксперименты на здоровых добровольцах показали, что воздействие ультрафиолета приводит не к полному уничтожению микробных сообществ, а к перераспределению некоторых типов, что предполагает различную восприимчивость к ультрафиолетовому излучению или адаптивность к меняющимся условиям микросреды. Изменения в микробиоме кожи нарушают гомеостаз иммунной системы и негативно влияют на течение воспалительных заболеваний [28].
Таким образом, современные взгляды на механизмы действия методов фототерапии, которые могут объяснить эффективность при различных по этиологии заболеваниях, основаны на различных эффектах: проапоптотическом (индукция апоптоза и высвобождение фотопродуктов), иммуномодулирующем (высвобождение иммуномодулирующих молекул, регуляция миграции клеток, индукция иммуносупрессии), антифиброзном (индукция матриксных металлопротеиназ, разрушающих коллаген), противозудном (подавление выработки Th2-цитокинов, подавление деграниляции тучных клеток, повышение уровня β-эндорфинов), антимикробном (подавление колонизации патогенных микроорганизмов, нарушающих равновесие микробного сообщества, стимуляция выработки антимикробных пептидов) [27]. Учитывая многогранность патогенетического воздействия методов фототерапии на различные патологические процессы в коже, различными авторами изучались терапевтические аспекты применения УФ-излучения при малоизученных и редких заболеваниях кожи. В данном обзоре рассмотрены результаты применения методов фототерапии при редких дерматозах.
Эритема дисхромическая стойкая (erythema dyschromicum perstans, ashy dermatosis, пепельный дерматоз Рамиреса) — это редкое расстройство пигментации, характеризующееся появлением пятен серого или сине-коричневого цвета на коже туловища, конечностей у лиц с III–V типами кожи по Фитцпатрику. Высыпания располагаются симметрично на открытых и закрытых участках кожного покрова. Предполагается, что повреждение меланоцитов и базальноклеточных кератиноцитов обусловлено аномальным иммунным ответом на антигены с преобладанием CD8+ Т-лимфоцитов в дерме и HLA-DR+, молекулы межклеточной адгезии 1+ кератиноцитов в эпидермисе. Гистологически определяются вакуольная дегенерация клеток базального слоя, меланоз дермы, периваскулярный инфильтрат.
N. Leung и соавт. (2018) был описан случай успешного лечения стойкой дисхромической эритемы с комбинированным применением УФВ-311 терапии и мази такролимус 0,1%. Первоначально пациенту назначали триамцинолон перорально, использовались мази клобетазол и такролимус без эффекта. УФВ-311 терапия применялась в начальной дозе 300 МДж/см2 с увеличением на 10–15% за сеанс в зависимости от переносимости. Режим проведения процедур — 3 раза/нед. После 2 месяцев терапии с применением УФВ-311 терапии и мази 0,1% такролимус у пациента разрешились эритема и зуд, а также значительно уменьшилась гиперпигментация пораженных участков [29].
Хронический лихеноидный кератоз — редкое заболевание неизвестного происхождения, характеризующееся появлением множественных плоских гиперкератотических папул, сливающихся в бляшки сетчатой линейной, кольцевидной форм с локализацией на коже туловища, конечностей, ягодиц. Более старые высыпания могут разрешиться с формированием вторичной пигментации, в то время как новые очаги поражения продолжают появляться. Гистологически определяются паракератоз, фолликулярный гиперкератоз, гипергранулез, незначительная лимфоцитарная инфильтрация в области дермо-эпидермального соединения, слабая периваскулярная лимфоцитарная инфильтрация. Эффективного лечения не существует.
T. Nomura и соавт. (2012) описан случай успешного лечения данного дерматоза с применением метода УФВ-311 терапии у взрослого пациента. Предшествующая терапия топическими глюкокортикостероидами, производными витамина D3, мазью такролимус была неэффективной. В результате трехмесячного курса лечения большинство высыпаний разрешилось [30]. Аналогичный случай успешного лечения хронического лихеноидного кератоза с применением УФВ-311 терапии был описан у детей (брата и сестры 1,5 и 10 лет) [31].
Саркоидоз — это идиопатическое, гранулематозное заболевание с преимущественным поражением легких. Поражение кожи отмечается примерно у 10–30% пациентов с саркоидозом и часто возникает в начале заболевания. Несмотря на различные терапевтические возможности, саркоидоз кожи остается исключительно сложным для лечения. Описано несколько случаев успешной терапии кожной формы саркоидоза с применением методов фототерапии. Шесть пациентов прошли лечение методом локальной ПУВА-терапии с наружным применением фотосенсибилизатора. У трех пациентов был полный ответ, у трех — улучшение с регрессом 50% высыпаний. Побочных эффектов в процессе лечения не отмечалось [32]. Также были описаны два случая успешного лечения резистентного саркоидоза кожи методом УФА-1 терапии. У одного пациента наблюдался практически полный регресс высыпаний, у другого — значительное улучшение [33, 34].
Эозинофильная кольцевидная эритема — редкий дерматоз, впервые описанный у взрослых F. Kahofer и соавт. в 2000 г. [35]. Клинически он характеризуется рецидивирующими нешелушащимися уртикарными папулами и бляшками, имеющими дугообразную или кольцевую форму с тенденцией к прогрессированию и локализацией на коже лица, туловища и проксимальных отделов конечностей. Гистологически патологический процесс представлен плотным периваскулярным и интерстициальным инфильтратом с обильным количеством эозинофилов по всей дерме, дегрануляцией эозинофилов. До сих пор остается спорным, является ли эозинофильная кольцевидная эритема подвидом синдрома Уэллса или отдельной нозологической формой. Идентичное состояние было описано у младенцев как кольцевидная эритема младенцев [36]. Заболевание носит хронический рецидивирующий характер и характеризуется устойчивостью к терапии.
Описан случай успешного лечения методом УФВ-311 терапии 8-летнего ребенка с эозинофильной кольцевидной эритемой. Высыпания локализовались на коже лица в течение 4 месяцев. Ранее проводилась терапия с применением кларитромицина и амоксициллина, крема клобетазол пропионат 0,05% без эффекта. В последующем пациент получал преднизолон перорально 15 мг/день в течение 8 недель с незначительным эффектом, гидроксихлорохин 100 мг/день (3 мг/кг) в течение 1 месяца без эффекта. В связи с прогрессирующим течением были назначены процедуры УФВ-311 терапии в выраженным терапевтическим эффектом в виде полного разрешения высыпаний после 8 сеансов. Рецидивов не отмечалось весь период наблюдения после прекращения фототерапии в течение 9 месяцев [37].
Кольцевидная центробежная эритема Дарье — бессимптомный дерматоз, характеризующийся появлением полициклических эритематозных очагов кольцевидной формы с шелушением по периферии и тенденцией в росту. Гистологически определяется периваскулярный инфильтрат, состоящий преимущественно из лимфоцитов, в верхних слоях дермы с легким спонгиозом и очаговым паракератозом.
Авторами описан случай успешного лечения методом УФВ-311 терапии женщины 60 лет с двухлетним анамнезом заболевания и прогрессирующим течением патологического процесса с локализацией на коже конечностей. Терапия топическими глюкокортикостероидами эффекта не оказала. При обследовании патологии не выявлено. Был проведен курс УФВ-311 терапии (30 процедур) с полным регрессом высыпаний [38].
Стойкие приобретенные «винные» пятна — редкая капиллярно-сосудистая аномалия развития. В то время как случаи врожденных «винных» пятен относительно распространены, случаи приобретенных мальформаций крайне редки.
Авторы сообщают о случае успешного лечения стойкого приобретенного «винного» пятна на коже левой ягодицы методом УФВ-311-терапии. Пациентка первично обратилась к дерматологу с целью проведения терапии прогрессирующего макулярного гипомеланоза. При осмотре на коже ягодицы были также диагностированы сосудистые пятна фиолетово-красного цвета. Приобретенные «винные» пятна — это редко описываемое сосудистое поражение, которое развивается после рождения, но морфологически идентично врожденному «винному» пятну. Причинами приобретенного «винного» пятна могут быть травма, аномальное восстановление сосудов и измененная иннервация, лекарственные препараты или токсины, инфекции и опухолевые процессы [39, 40]. Пациентке был назначен курс УФВ-311 терапии с режимом 2–3 раза/нед по поводу прогрессирующего макулярного гипомеланоза. Через 6 месяцев терапии было отмечено как разрешение симптомов гипомеланоза, так и частичный регресс «винных» пятен. Авторы заключают, что механизм действия УФВ- 311 при данной сосудистой мальформации неизвестен, вероятно, он включает в себя разрушение хромофоров ультрафиолетовым спектром 311 нм [41].
Склередема Бушке — редкое кожное заболевание неизвестной этиологии, характеризуется утолщением и стягиванием кожи, которое обычно начинается на шее и распространяется на верхнюю часть тела, чаще на лицо, волосистую часть головы, плечи и туловище. Кисти и стопы, как правило, не поражаются. Заболевание имеет три подтипа: 1) классический, возникающий после респираторных инфекций; 2) не связанный с инфекциями и 3) связанный с сахарным диабетом. Гистологически характеризуется нормальным эпидермисом с утолщенной в 4 раза дермой, содержащей мукополисахариды, в подкожно-жировой клетчатке — отложение коллагеновых волокон [42].
Эффективность методов фототерапии описана в ряде клинических случаев, однако механизм ее действия при данном заболевании неизвестен. Описаны три случая успешного лечения склередемы Бушке с применением ПУВА-ванн. Количество процедур на курс составило от 52 до 68, режим — 3 раза/нед [43]. В описании другого случая отмечен хороший терапевтический эффект УФВ-311 терапии [44]. По данным K. Stürmer и соавт. (2010), зафиксировано значительное улучшение после комбинированной терапии с применением пенициллина, преднизолона и 30 сеансов УФA-1 терапии [45]. В исследовании N. Thumpimukvatana и соавт. (2010) описаны два случая диабетической склередемы с существенным клиническим улучшением после курса средними дозами УФА-1 терапии (60 Дж/см2) [46]. В исследовании С. Kokpol и соавт. в 2012 г. сообщалось о случае успешного лечения диабетической склередемы Бушке сочетанным применением локальной ПУВА-терапии с колхицином [47]. В исследовании J. Yuksek и соавт. также был описан случай успешной терапии склередемы широкополосным УФВ-излучением в сочетании с колхицином [48].
Вариабельная эритрокератодермия — редкое заболевание кожи, характеризующееся мигрирующими эритематозными и гиперкератотическими бляшками, которые обычно появляются при рождении или на первом году жизни. Как правило, это аутосомно-доминантное наследственное заболевание, но имеются сообщения о спорадических и рецессивных случаях [49]. При гистологическом исследовании выявляются гиперкератоз, акантоз, папилломатоз, напоминающий «церковный шпиль», и периваскулярный лимфоцитарный инфильтрат.
Японские авторы описывают случай лечения 20-летней пациентки с преимущественным поражением нижних конечностей, лица, тыльной стороны кистей. Наружная терапия топическими глюкокортикостероидами и кремом с мочевиной оказалась неэффективной. Был проведен курс УФВ-311 терапии. Начальная доза составила 0,3 Дж/см2 с увеличением на 20% каждую неделю до максимальной дозы 1,18 Дж/см2. В результате лечения отмечен регресс 75% высыпаний. Авторами сделан вывод о возможности альтернативного использования УФВ-311 терапии для пациентов репродуктивного возраста [50]. Турецкими авторами был описан случай эффективного лечения вариабельной эритрокератодермии ретиноидами в сочетании с ПУВА-терапией. Ацитретин назначался в дозе 10 мг/ сут, процедуры ПУВА-терапии начинали с начальной дозы УФ-излучения 0,5 Дж/см2 и последующим увеличением на 0,5 Дж/см2 до максимальной 9 Дж/см2. Суммарная доза УФА-облучения составила 129 Дж/см2. Заметное улучшение состояния было достигнуто на третьем месяце курса ПУВА-терапии [51].
Папулоэритродермия Офуджи — редкое заболевание, впервые описанное S. Ofuji и соавт. в 1984 г., характеризуется зудом и красными плоскими папулами с редкими кожными складками (симптом «шезлонга») [52]. Заболевание встречается в основном у пожилых мужчин и часто сопровождается лимфаденопатией, эозинофилией периферической крови, лимфопенией и повышением уровня иммуноглобулина Е [53]. Этиопатогенез папулоэритродермии Офуджи до сих пор неизвестен, но было высказано предположение, что она может быть необычным вариантом многих воспалительных дерматозов, например атопического дерматита, у пациентов пожилого возраста, паранеопластическим дерматозом, признаком лимфомы кожи, встречается при ВИЧ-инфекции, гиперчувствительности к лекарственным препаратам [54–62]. При гистологическом исследовании определяются гиперкератоз, паракератоз, эпидермальная гиперплазия, экзоцитоз, акантоз, спонгиоз, поверхностная периваскулярная лимфоцитарная инфильтрация.
Описан случай эффективного лечения данного редкого дерматоза с примением ре-ПУВА-терапии с ацитретином. Пациент получал ацитретин в дозе 0,6 мг/кг/сут в сочетании с ПУВА-терапией. Режим проведения процедур составил 2 раза/нед. На 4-й неделе лечения отмечена выраженная положительная динамика в виде значительного уменьшения интенсивности зуда и регресса значительной части высыпаний. В течение 4-месячного периода после лечения рецидивов не наблюдалось [63].
Заключение
За последние десятилетия методы фототерапии доказали свою эффективность в лечении целого ряда хронических дерматозов, включая такие заболевания, как псориаз, атопический дерматит, экзема, парапсориаз, Т-клеточная лимфома. Уникальные особенности терапевтического воздействия могут оказаться незаменимыми в лечении редких дерматозов. Это обусловлено многообразием механизмов действия методов фототерапии: влиянием на механизмы адаптивного и врожденного иммунного ответа, клеточный матрикс, микробиом кожи.
Большинство описанных исследований при редких нозологических формах основано на сообщениях о единичных случаях, в связи с чем необходимо проведение дальнейших исследований по накоплению опыта использования методов фототерапии при редкой патологии кожи. Сегодня фототерапия остается надежным терапевтическим инструментом в практике врача-дерматовенеролога, одним из самых доступных методов терапии, учитывая ее эффективность, безопасность и относительную простоту применения.
About the authors
Marianna B. Zhilova
State Research Center of Dermatovenereology and Cosmetology
Author for correspondence.
Email: zhilova@cnikvi.ru
ORCID iD: 0000-0003-2545-2129
SPIN-code: 8930-4073
MD, Dr. Sci. (Med.)
Russian Federation, 3 bldg 6 Korolenko street, 107076 MoscowReferences
- Torres AE, Lyons AB, Hamzavi IH, Lim HW. Role of phototherapy in the era of biologics. J Am Acad Dermatol. 2021;84(2):479–485. doi: 10.1016/j.jaad.2020.04.095
- Inzinger M, Heschl B, Weger W, Hofer A, Legat FJ, Gruber-Wackernagel A, et al. Efficacy of psoralen plus ultraviolet A therapy vs. biologics in moderate to severe chronic plaque psoriasis: retrospective data analysis of a patient registry. Br J Dermatol. 2011;165(3):640–655. doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10396.x
- Noe MH, Wan MT, Shin DB, Armstrong AW, Duffin KC, Chiesa Fuxench ZC, et al. Patient-reported outcomes of adalimumab, phototherapy, and placebo in the Vascular Inflammation in Psoriasis Trial: A randomized controlled study. J Am Acad Dermatol. 2019;81(4):923–930. doi: 10.1016/j.jaad.2019.05.080
- Finlayson L, Barnard IRM, McMillan L, Ibbotson SH, Brown CTA, Eadie E, et al. Depth Penetration of Light into Skin as a Function of Wavelength from 200 to 1000 nm. Photochem Photobiol. 2022;98(4):974–981. doi: 10.1111/php.13550
- Reich A, Lehmann B, Meurer M, Muller DJ. Structural alterations provoked by narrow-band ultraviolet B in immortalized keratinocytes: assessment by atomic force microscopy. Exp Dermatol. 2007;16(12):1007–1015. doi: 10.1111/j.1600-0625.2007.00623.x
- Luo S, Zheng Y, Peng Z, Jiang J, Gondokaryono S, Wang G, et al. Effects of narrow-band ultraviolet B and tazarotene therapy on keratinocyte proliferation and TIG3 expression. J Dermatol. 2008;35(10):651–657. doi: 10.1111/j.1346-8138.2008.00538.x
- Reich A, Meurer M, Viehweg A, Muller DJ. Narrow-band UVB-induced externalization of selected nuclear antigens in keratinocytes: implications for lupus erythematosus pathogenesis. Photochem Photobiol. 2009;85(1):1–7. doi: 10.1111/j.1751-1097.2008.00480.x
- Reich A, Schwudke D, Meurer M, Lehmann B, Shevchenko A. Lipidome of narrow-band ultraviolet B irradiated keratinocytes shows apoptotic hallmarks. Exp Dermatol. 2010;19(8):e103–e110. doi: 10.1111/j.1600-0625.2009.01000.x
- Ozawa M, Ferenczi K, Kikuchi T, Cardinale I, Austin LM, Coven TR, et al. 312-nanometer ultraviolet B light (narrow-band UVB) induces apoptosis of T cells within psoriatic lesions. J Exp Med. 1999;189(4):711–718. doi: 10.1084/jem.189.4.711
- Sigmundsdottir H, Johnston A, Gudjonsson JE, Valdimarsson H. Narrowband-UVB irradiation decreases the production of pro-inflammatory cytokines by stimulated T cells. Arch Dermatol Res. 2005;297(1):39–42. doi: 10.1007/s00403-005-0565-9
- Erkin G, Uğur Y, Gürer CK, Aşan E, Korkusuz P, Sahin S, et al. Effect of PUVA, narrow-band UVB and cyclosporin on inflammatory cells of the psoriatic plaque. J Cutan Pathol. 2007;34(3):213–219. doi: 10.1111/j.1600-0560.2006.00591.x
- Faergemann J, Larkö O. The effect of UV-light on human skin microorganisms. Acta Derm Venereol. 1987;67(1):69–72.
- Gambichler T, Skrygan M, Tomi NS, Altmeyer P, Kreuter A. Changes of antimicrobial peptide mRNA expression in atopic eczema following phototherapy. Br J Dermatol. 2006;155(6):1275–1278. doi: 10.1111/j.1365-2133.2006.07481.x
- Gläser R, Navid F, Schuller W, Jantschitsch C, Harder J, Schröder JM, et al. UV-B radiation induces the expression of antimicrobial peptides in human keratinocytes in vitro and in vivo. J Allergy Clin Immunol. 2009;123(5):1117–1123. doi: 10.1016/j.jaci.2009.01.043
- Bulat V, Situm M, Dediol I, Ljubicić I, Bradić L. The mechanisms of action of phototherapy in the treatment of the most common dermatoses. Coll Antropol. 2011;35(Suppl 2):147–151.
- Bäumler W, Regensburger J, Knak A, Felgenträger A, Maisch T. UVA and endogenous photosensitizers — the detection of singlet oxygen by its luminescence. Photochem Photobiol Sci. 2012;11(1):107–117. doi: 10.1039/c1pp05142c
- De Rie MA, Bos JD. Photochemotherapy for systemic and localized scleroderma. J Am Acad Dermatol. 2000;43(4):725–726. doi: 10.1067/mjd.2000.109307
- Malewska-Woźniak A, Lodyga M, Adamski Z. Concentrations of metalloproteinase-1 in patients with morphea treated with phototherapy: a preliminary study. Postepy Dermatol Alergol. 2022;39(5):972–975. doi: 10.5114/ada.2021.113127
- Bäumler W. Singlet oxygen in the skin. In: Singlet Oxygen: Applications in Biosciences and Nanosciences. 2016 ebook collection. Ch. 36. P. 205–226.
- Knak A, Regensburger J, Maisch T, Bäumler W. Exposure of vitamins to UVB and UVA radiation generates singlet oxygen. Photochem Photobiol Sci. 2014;13(5):820–829. doi: 10.1039/c3pp50413a
- Regensburger J, Knak A, Maisch T, Landthaler M, Bäumler W. Fatty acids and vitamins generate singlet oxygen under UVB irradiation. Exp Dermatol. 2012;21(2):135–139. doi: 10.1111/j.1600-0625.2011.01414.x
- Yamauchi R, Morita A, Yasuda Y, Grether-Beck S, Klotz LO, Tsuji T, et al. Different susceptibility of malignant versus nonmalignant human T cells toward ultraviolet A-1 radiation-induced apoptosis. J Invest Dermatol. 2004;122(2):477–483. doi: 10.1046/j.0022-202X.2003.22106.x
- Godar DE. UVA1 radiation triggers two different final apoptotic pathways. J Invest Dermatol. 1999;112(1):3–12. doi: 10.1046/j.1523-1747.1999.00474.x
- Krutmann J, Morita A. Mechanisms of ultraviolet (UV) B and UVA phototherapy. J Investig Dermatol Symp Proc. 1999;4(1):70–72. doi: 10.1038/sj.jidsp.5640185
- Skov L, Hansen H, Allen M, Villadsen L, Norval M, Barker JN, et al. Contrasting effects of ultraviolet A1 and ultraviolet B exposure on the induction of tumour necrosis factor-alpha in human skin. Br J Dermatol. 1998;138(2):216–220. doi: 10.1046/j.1365-2133.1998.02063.x
- Tognetti L, Marrocco C, Carraro A, Guerrini G, Mariotti G, Cinotti E, et al. Clinical and laboratory characterization of patients with localized scleroderma and response to UVA-1 phototherapy: In vivo and in vitro skin models. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2022;38(6):531–540. doi: 10.1111/phpp.12786
- Kurz B, Berneburg M, Bäumler W, Karrer S. Phototherapy: Theory and practice. J Dtsch Dermatol Ges. 2023;21(8):882–897. doi: 10.1111/ddg.15126
- Burns EM, Ahmed H, Isedeh PN, Kohli I, Van Der Pol W, Shaheen A, et al. Ultraviolet radiation, both UVA and UVB, influences the composition of the skin microbiome. Exp Dermatol. 2019;28(2):136–141. doi: 10.1111/exd.13854
- Leung N, Oliveira M, Selim MA, McKinley-Grant L, Lesesky E. Erythema dyschromicum perstans: A case report and systematic review of histologic presentation and treatment. Int J Womens Dermatol. 2018;4(4):216–222. doi: 10.1016/j.ijwd.2018.08.003
- Nomura T, Toichi E, Miyachi Y, Kabashima K. A Mild Case of Adult-Onset Keratosis Lichenoides Chronica Successfully Treated with Narrow-Band UVB Monotherapy. Case Rep Dermatol. 2012;4(3):238–241. doi: 10.1159/00034527
- Tomb R, Soutou B. [Keratosis lichenoides chronica in two siblings with marked response to UVB phototherapy]. Ann Dermatol Venereol. 2008;135(12):835–838. doi: 10.1016/j.annder.2008.04.017
- Gleeson CM, Morar N, Staveley I, Bunker CB. Treatment of cutaneous sarcoid with topical gel psoralen and ultraviolet A. Br J Dermatol. 2011;164(4):892–894. doi: 10.1111/j.1365-2133.2010.10175.x
- Mahnke N, Medve-Koenigs K, Berneburg M, Ruzicka T, Neumann NJ. Cutaneous sarcoidosis treated with medium-dose UVA1. J Am Acad Dermatol. 2004;50(6):978–979. doi: 10.1016/j.jaad.2003.09.027
- Graefe T, Konrad H, Barta U, Wollina U, Elsner P. Successful ultraviolet A1 treatment of cutaneous sarcoidosis. Br J Dermatol. 2001;145(2):354–355. doi: 10.1046/j.1365-2133.2001.04356.x
- Kahofer P, Grabmaier E, Aberer E. Treatment of eosinophilic annular erythema with chloroquine. Acta Derm Venereol. 2000;80(1):70–71. doi: 10.1080/000155500750012685
- Peterson AO Jr, Jarratt M. Annular erythema of infancy. Arch Dermatol. 1981;117(3):145–148.
- Thomas L, Fatah S, Nagarajan S, Natarajan S. Eosinophilic annular erythema: successful response to ultraviolet B therapy. Clin Exp Dermatol. 2015;40(8):883–886. doi: 10.1111/ced.12668
- Caesar JG, James S, Merriman K, Peat L, Hayes M, Powell JB. A rare case of erythema annulare centrifugum resolving with narrowband ultraviolet B phototherapy. Clin Exp Dermatol. 2021;46(6):1112–1114. doi: 10.1111/ced.14635
- Dinehart SM, Parker RK, Herzberg AJ, Pappas AJ. Acquired port-wine stains. Int J Dermatol. 1995;34(1):48–52. doi: 10.1111/j.1365-4362.1995.tb04380.x
- Stephens MR, Putterman E, Yan AC, Castelo-Soccio L, Perman MJ. Acquired port-wine stains in six pediatric patients. Pediatr Dermatol. 2020;37(1):93–97. doi: 10.1111/pde.14019
- Brownstone N, Bhutani T. A common treatment for a rare condition: Narrowband-Ultraviolet B (NB-UVB) phototherapy for the treatment of a recalcitrant acquired port wine stain. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2021;37(4):293–295. doi: 10.1111/phpp.12651
- Carrington PR, Sanusi ID, Winder PR, Turk LL, Jones C, Millikan LE. Scleredema adultorum. Int J Dermatol. 1984;23(8):514–522. doi: 10.1111/j.1365-4362.1984.tb04202.x
- Hager CM, Sobhi HA, Hunzelmann N, Wickenhauser C, Scharenberg R, Krieg T, et al. Bath-PUVA therapy in three patients with scleredema adultorum. J Am Acad Dermatol. 1998;38(2 Pt 1):240–242. doi: 10.1016/s0190-9622(98)70244-0
- Yoshimura J, Asano Y, Takahashi T, Uwajima Y, Kagami S, Honda H, et al. A case of scleredema adultorum successfully treated with narrow-band ultraviolet B phototherapy. Mod Rheumatol. 2016;26(2):302–306. doi: 10.3109/14397595.2013.875640
- Stürmer K, Hunzelmann N, Beutner D. [Indolent swelling of the neck]. HNO. 2010;58(4):374–377. doi: 10.1007/s00106-009-2016-y
- Thumpimukvatana N, Wongpraparut C, Lim HW. Scleredema diabeticorum successfully treated with ultraviolet A1 phototherapy. J Dermatol. 2010;37(12):1036–1039. doi: 10.1111/j.1346-8138.2010.01014.x
- Kokpol C, Rajatanavin N, Rattanakemakorn P. Successful Treatment of Scleredema Diabeticorum by Combining Local PUVA and Colchicine: A Case Report. Case Rep Dermatol. 2012;4(3):265–268. doi: 10.1159/000345712
- Yüksek J, Sezer E, Köseoğlu D, Markoç F, Yıldız H. Scleredema treated with broad-band ultraviolet A phototherapy plus colchicine. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2010;26(5):257–260. doi: 10.1111/j.1600-0781.2010.00526.x
- Common JE, O’Toole EA, Leigh IM, Thomas A, Griffiths WA, Venning V, et al. Clinical and genetic heterogeneity of erythrokeratoderma variabilis. J Invest Dermatol. 2005;125(5):920–927. doi: 10.1111/j.0022-202X.2005.23919.x
- Okuda K, Nishida E, Tori K, Matubara A, Sagawa Y, Takeichi T, et al. Case of erythrokeratodermia variabilis successfully treated with narrowband ultraviolet B. J Dermatol. 2020;47(1):e30–e31. doi: 10.1111/1346-8138.15110
- Yüksek J, Sezer E, Köseoğlu D, Markoç F, Yildiz H. Erythrokeratodermia variabilis: successful treatment with retinoid plus psoralen and ultraviolet A therapy. J Dermatol. 2011;38(7):725–727. doi: 10.1111/j.1346-8138.2010.01058.x
- Ofuji S, Furukawa F, Miyachi Y, Ohno S. Papuloerythroderma. Dermatologica. 1984;169(3):125–130. doi: 10.1159/000249586
- Aste N, Fumo G, Conti B, Biggio P. Ofuji papuloerythroderma. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2000;14(1):55–57. doi: 10.1046/j.1468-3083.2000.00003.x
- Harris DW, Spencer MJ, Tidman MJ. Papuloerythroderma--clinical and ultrastructural features. Clin Exp Dermatol. 1990;15(2):105–106. doi: 10.1111/j.1365-2230.1990.tb02042.x
- Camacho FM, García-Hernandez MJ, Muñoz-Pérez MA, Mazuecos J, Sotillo I. Ofuji papuloerythroderma in an elderly woman with atopic erythroderma. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2001;15(3):264–266.
- Schepers C, Malvehy J, Azón-Masoliver A, Navarra E, Ferrando J, Mascaró JM. Papuloerythroderma of Ofuji: a report of 2 cases including the first European case associated with visceral carcinoma. Dermatology. 1996;193(2):131–135. doi: 10.1159/000246228
- Nishijima S. Papuloerythroderma associated with hepatocellular carcinoma. Br J Dermatol. 1998;139(6):1115–1116. doi: 10.1046/j.1365-2133.1998.2576e.x
- de Vries HJ, Koopmans AK, Starink TM, Mekkes JR. Ofuji papuloerythroderma associated with Hodgkin’s lymphoma. Br J Dermatol. 2002;147(1):186–187. doi: 10.1046/j.1365-2133.2002.47806.x
- García-Patos V, Repiso T, Rodríguez-Cano L, Castells A. Ofuji papuloerythroderma in a patient with the acquired immunodeficiency syndrome. Dermatology. 1996;192(2):164–166. doi: 10.1159/000246349
- Just M, Carrascosa JM, Ribera M, Bielsa I, Ferrándiz C. Dideoxyinosine-associated Ofuji papuloerythroderma in an HIV-infected patient. Dermatology. 1997;195(4):410–411. doi: 10.1159/000246003
- Dwyer CM, Chapman RS, Smith GD. Papuloerythroderma and cutaneous T cell lymphoma. Dermatology. 1994;188(4):326–328. doi: 10.1159/000247177
- Tay YK, Tan KC, Ong BH. Papuloerythroderma of Ofuji and cutaneous T-cell lymphoma. Br J Dermatol. 1997;137(1):160–161. doi: 10.1111/j.1365-2133.1997.tb03730.x
- Mutluer S, Yerebakan O, Alpsoy E, Ciftcioglu MA, Yilmaz E. Treatment of papuloerythroderma of Ofuji with Re-PUVA: a case report and review of the therapy. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2004;18(4):480–483. doi: 10.1111/j.1468-3083.2004.00930.x
Supplementary files